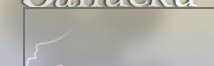|
 |
|
Лариса БЕРЕЗОВЧУК
Его болезнь чисто нравственного свойства.
Она почти неизлечима, а в иных случаях заразна.
Это — страшная болезнь, которая прежде всего
поражает души юные… охваченные любовью
к справедливости и красоте, а встречающие на
каждом шагу только несправедливости и уродства
нашего дурно устроенного общества. Эта
болезнь — ненависть к жизни и жажда смерти.
Альфред де Виньи. «Чаттертон»
Имя австрийского кинорежиссера Михаэля Ханеке не слишком много говорит ценителям кино в России и даже специалистам. А между тем в 2001 г. он стал «каноническим классиком» современного киноискусства: на МКФ в Канне фильм Ханеке «Пианистка» получил все главные награды[1]. При этом отношение киносообщества к этому произведению режиссера было противоречивым, как и ко всем предыдущим его картинам. В целом была прохладной реакция и зрительской аудитории, когда «Пианистка» вышла в прокат: как обычно, протест вызывала характерная для фильмов Ханеке сконденсированная жестокость, дополненная здесь еще и сексуальными патологиями. Причем было непонятно, то ли сам автор подобным образом относится к своим героям, то ли таковы особенности сюжета о взаимоотношениях молодого юноши и женщины среднего возраста, то ли эта тотальность страдания и насилия заложена в первоисточнике — одноименном романе австрийской писательницы-феминистки Эльфриды Елинек[2], лауреата Нобелевской премии 2004 г. в области литературы. Торжествовало только арт-хаузное критическое лобби[3], посчитав отныне Ханеке «своим» режиссером[4].
Забегая несколько вперед, отметим, что фильм выдающегося австрийского режиссера «Пианистка», как и остальные его картины, не имеет никакого отношения к арт-хаузной художественной идеологии. Это — типично авторское кино на современном этапе развития этого направления. А в авторском кинематографе для режиссеров всегда было главным или воплощение в экранных образах метафизических аспектов Бытия (авторское кино 60-80 гг. прошлого века), или разработка какой-то собственной идеи (современный его этап). В авторском кино в принципе не бывает холодно-циничного натурализма экранной «жути». И хотя после просмотра «Пианистки», как, впрочем, и остальных фильмов Ханеке, действительно возникает чрезвычайно тяжелое и неприятное ощущение, его причиной является режиссерский замысел, а не травмирующее зрителя изображение, как это присуще арт-хаузной продукции.
В «Пианистке» комплекс идей автора наиболее разнообразен по своим составляющим и сложен, равно, как и работа по их экранному воплощению в сравнении с иными произведениями мастера. Специфическим именно для этого фильма является работа с коннотациями, производными как от историко-стилевой эволюции музыкального искусства, так и от психофизиологических особенностей музыкального исполнительства. Подобные коннотации, в которых ориентируются далеко не все киноведы, не говоря уже о критиках, Ханеке использует целенаправленно и безупречно с точки зрения достоверной передачи на экране особенностей психологии музыкантов. В этом — одна из причин поразительно сильного эмоционального воздействия этой картины на зрителя.
Поэтому в исследовании, посвященном творческому методу Ханеке, целесообразно сосредоточиться на фильме «Пианистка», учитывая параллельно особенности других произведений австрийского художника. Особо пристальное внимание будут вызывать следующие стороны творческого метода режиссера:
— причины сосредоточенности на насилии, на стремлении персонажей доставлять боль, унижение и страдание другим людям на уровне драматургии (сценария) в фильмах Ханеке;
— исток внешней (драматургической) немотивированности насилия и его показа на экране как действия, лишенного эмоционального компонента;
— психологические основания «образа человека» в фильмах Ханеке;
— новаторское использование психологических факторов для воздействия фильмов на зрителей и необходимые для этого приемы в организации киноповествования;
— образ современного общества и культуры в кинематографе Ханеке.
Кроме того, при анализе образно-смысловой стороны фильмов режиссера может понадобиться «второй план» аргументации. Он связан как с описанием психологических особенностей музыкально-исполнительской деятельности, которые неочевидны для киноведения, так и тезисным изложением некоторых концепций современного гуманитарного знания, с которыми, на наш взгляд, целенаправленно — и полемически — работает в своем творчестве австрийский художник.
1. Типологические особенности фильмов «о музыке и музыкантах»
В современном кинопроцессе «Пианистка» относится хоть и к необширному по числу репрезентирующих его картин, но специфическому типу фильмов «о музыке и музыкантах». Но это — не музыкальное, а именно «обычное» игровое кино. К нему обращаются европейские кинорежиссеры, а не голливудские, потому что картины этого типа как-то откровенно некоммерческие. Даже если в них повествуется о жизни и творческом пути какого-то выдающегося композитора или исполнителя, для режиссеров на первый план выходит не историческое жизнеописание конкретной персоны (как в историко-биографических лентах), а ставятся проблемы намного весомее — о природе музыки в целом, о ее месте во внутреннем мире личности, о роли музыкального искусства в культуре и развитии человечества.
Фильмы «о музыке и музыкантах» изредка, когда они тяготеют к жанровому кино, могут быть поразительно красивыми с точки зрения визуальности («Фаринелли-кастрат» и «Король танцует» Жерара Корбьё). Но преимущественное их большинство — это акцентированно авторское кино. В нем изображение носит служебный характер по отношению к сверхзадаче, стоящей перед режиссерами. А она во всех картинах группы, о которой идет речь, по сути своей — одинакова. На экране нужно показать то, что по своей природе незримо: как музыка воздействует на человека, как она влияет на его характер, как творит — либо ломает — его судьбу своими образно-звуковыми возможностями[5]. Именно это происходит в фильмах «Осенняя соната» Ингмара Бергмана, «Полуночный джаз» Бертрана Тавернье, «Три цвета: синий» Кшиштофа Кесьлёвского, «Все утра мира» Алена Корно, «Каллас навсегда» Франко Дзеффирелли и незначительного числа иных.
Показательно: независимо от стилистики изображения и исторической локализации сюжета все эти фильмы оставляют после себя эмоционально тяжелое впечатление. Ни малейшего намека на «хэппи-энд», даже если их герои остаются живыми. При этом персонажи-музыканты в сравнении с другими действующими лицами этих фильмов отличаются внятным своеобразием внутреннего мира, которое можно оценить, скорее, как «отрицательное», как какую-то «неправильность», нежели как счастливый и радостный дар таланта. Они страдают сами и чаще всего мучают близких им людей.
Так, певец Фаринелли, кастрированный в детстве для того, чтобы сохранить альтовый тембр голоса, став взрослым и используя могучую силу его красоты, осознанно доводит Генделя до инсульта. Он вдохновенно исполняет арию-ламенто, нотный текст которой был украден у композитора. Генделя, таким образом, едва ли не в прямом смысле убивает «музыка»: его собственный великий дар, соединившийся с нечеловеческим по красоте и воздействию на людей вокалом. Его совершенство настолько могущественно, что может даже управлять небесными светилами (эпизод солнечного затмения, когда Фаринелли при дворе испанского короля поет, «вызывая» из темноты свет).
Так, режиссер «Полуночного джаза» Тавернье недвусмысленно намекает на то, что деградация личности главного героя произошла во многом потому, что он был гениальным джазовым саксофонистом. Замысел фильма сконцентрирован вокруг образно-эмоциональной специфичности джаза и ее воздействия на жизнь человека в повседневности, из-за чего талантливый музыкант превратился в старого забулдыгу.
Так, французский композитор и исполнитель на виоле да гамба де Сент-Коломб, творивший в эпоху барокко, практически исключает себя из мира живых людей — своей семьи, профессиональных музыкантских кругов, общества в целом — ради разговоров с «миром мертвых». Именно этим для него, в первую очередь, является сочинение музыки и музицирование («Все утра мира»).
Так, крайне сомнительна интерпретация фильма Кесьлёвского «Три цвета: синий» как возвращение главной героини к жизни благодаря «обретению» музыки — ею же сочиненной оратории на текст «Послания к коринфянам», которую она втайне от сообщества музыкантов писала вместо своего мужа-композитора[6]. Сюжет фильма — это и есть процесс «возврата к жизни» после автокатастрофы. Но по мере того, как героиня обретает «право на свою музыку», для нее теряют смысл все ценности предыдущего существования: и погибшая семья, и измена покойного супруга, от которой вот-вот появится на свет младенец у другой женщины, и материальное благополучие. Когда в финале фильма зазвучит патетическая и суровая главная тема оратории, и хор будет провозглашать текст о божественном даре любви, — то по сравнению с подобной грандиозностью все неурядицы, даже крушение обычной человеческой жизни, покажутся ничтожными. А вот композитор, создатель подобного шедевра, — что закономерно для психологии музыкального творчества, — так или иначе, будет ощущать себя причастным этому «нечеловеческому», едва ли не божественному величию.
Как это ни противоречит представлениям обыденного сознания о «чарах» и приятности «звуков музыки» (и даже взглядам музыкантов-профессионалов на поприще своей деятельности), практически все фильмы «о музыке и музыкантах» показывают музыкальное искусство как некую могучую иррациональную силу-стихию. По своей природе она, скорее, демоническая, нежели благая. Люди-музыканты — ее заложники и жертвы. Потому они обречены на страдания, на деформации собственных судеб.
Ясно, что в центре фильмов этой группы оказывается образ человека-музыканта. Ясно также, что подобное разрушающе-негативное воздействие музыкального искусства в визуальных образах показать никак нельзя. И при этом в фонограммах фильмов в изобилии звучит поразительная по красоте музыка, оказывающая на зрителей вовсе не «демоническое» воздействие, а наоборот — которая доставляет удовольствие, даже вызывает восторг. В результате носителями режиссерских замыслов в таких картинах закономерно оказываются, во-первых, сценарий, а во-вторых, психологический рисунок ролей, создаваемых актерами, которые играют главных героев-музыкантов. Как следствие, режиссерские концепции фильмов, связанные с разрушительным воздействием музыки на судьбы композиторов или исполнителей, в киноповествовании уходят в подтекст — во второй план действия. А это, в свою очередь, требует от зрителя (и от аналитика тем более) не только внимательности, способности улавливать противоречивые моменты в киноповествовании с точки зрения логичности и мотивированности каждого поступка персонажей, но и — попросту — знания того, как на самом деле живут, работают и творят в реальности музыканты. Иначе мы рискуем не понять самого важного в режиссерском замысле картины.
Вспомним, как в свое время было непросто осмыслить режиссерскую идею в хронологически первом фильме этой группы — «Осенней сонате» Бергмана. Он поразил тогда неоднозначностью в показе поступков и переживаний двух главных женских персонажей. Невозможно было определить, кто из них «прав» в своих притязаниях: мать-пианистка в своем стремлении к жизни, свободной от повседневной кабалы домашнего очага и семейных привязанностей, которые она игнорировала ради творчества и концертной деятельности? ее старшая дочь, с малолетства страдавшая из-за своей, по сути, ненужности — из-за отсутствия любви матери, ее нежности, заботы? Киноведение тогда еще не владело рациональными критериями для определения мотивов поведения каждой из героинь. И невольно приходилось делать выводы о том, что подобная «непонятность» связана со стремлением Бергмана воплотить на экране «сложную экзистенциальную проблематику», вроде «все люди обречены на одиночество»[7]. На самом же деле режиссер поставил фильм не о чем ином, как о психологически болезненных — для себя и близких людей — издержках профессии музыканта, и о том, как окружение их не в состоянии понять и принять.
2. О семиотической трактовке «музыкального» в фильме «Пианистка»
Фильм Ханеке «Пианистка» — максимально правдивое и психологически точное киноповествование о проблемах человека-музыканта, обострившихся уже до уровня очевидных психических патологий, которые, в первую очередь, связаны с его профессией и вызваны ею. Показательно разнообразие реакций на этот фильм, которое, на наш взгляд, связано как с эстетическими ориентациями зрителя, так и с пониманием особенностей внутреннего мира профессиональных музыкантов-исполнителей. Арт-хаузная критика, обнаружив поразительные глухоту к смыслу музыки, которая в фильме звучит, и слепоту к показанным Ханеке особенностям психологии музыкального исполнительства[8], в основном смаковала откровенность эпизодов, связанных с сексом и насилием[9]. Эти же эпизоды своим натурализмом и жестокостью отталкивали рядового зрителя. У опытного и подготовленного зрителя вызывал недоумение постоянный параллелизм в киноповествовании «высокой» классической музыки (как закадровой, так и внутрикадровой) с ее одухотворенной сентиментальностью и какого-то констатирующего холодного «бесстыдства» в показе режиссером интимных проявлений главных героев и насилия их друг над другом. Характерно, только публика из музыкантской среды с полным пониманием отнеслась к линии «патологических отношений» между профессором консерватории и студентом ее класса[10], переживая куда более сложный и болезненный смысловой уровень фильма, связанный как с психологий исполнительства, так и с историей музыкального искусства[11].
При этом все находили примеры подобных, эротически окрашенных отношений между педагогом и студентами в отечественном высшем музыкальном образовании. Отмечалось также, что есть принципиальная разница между «просто личными отношениями», которые не обсуждаются, ибо относятся к сфере приватной жизни, и такими, в которых чувственность инспирируется исполнительскими приоритетами педагога. И тогда в отношениях преподавателя и студентов класса начинает проявляться нечто стихийно-иррациональное, резонирующее патологией. Подобному влечению не находится объяснений с точки зрения «естественного» полового чувства: педагог может быть пожилым человеком, некрасивым, быть преданным семье и нравственному долгу перед ней — не важно. Его окружает своеобразная эротическая аура, притягательность которой для студентов носит безусловный характер. И самое главное: эротической взвинченности не найти в классах, педагог которых специализируется, например, на исполнении музыки Баха, Бетховена или Моцарта, современных композиторов. Но если «исполнительским коньком» преподавателя являются сочинения композиторов-романтиков (Шопена, Шуберта, Шумана, Грига, Листа, Мендельсона, Брамса, Чайковского, Рахманинова и др.)[12], атмосфера на занятиях по специальности в той или иной мере психологически накаляется, электризуясь чувственностью и эротизмом. Все скандально известные в нашей стране примеры ситуаций, внешне подобные той, которую изобразил Ханеке в своем фильме, возникали исключительно в классах педагогов-музыкантов, специализировавшихся на исполнении музыки эпохи романтизма.
Австрийский режиссер показывает не «просто роман» между преподавательницей-пианисткой и студентом ее класса. Сложность режиссерской идеи Ханеке заключается в том, что он воплотил в экранных образах становление личности человека-музыканта и деформирующую роль его профессии, шире — музыки определенного образно-эмоционального типа в этом процессе. Но Эрика еще и современная женщина. Она исполняет множество обязанностей — профессиональных и бытовых, и в связи с этим у нее возникают, как у любого человека, и сложные ситуации, и большое число контактов с разными людьми. В фильме Ханеке практически каждый эпизод показывает: у этой женщины есть большие внутренние проблемы, как бы она ни старалась скрыть их за этикетной маской невозмутимости. Ситуация появления в ее жизни молодого парня Вальтера предоставляет режиссеру возможность показать, какой клубок болезненных переживаний под этой маской скрывается.
По эпизоду первой встречи главных героев зрители вряд ли способны осмыслить причину драмы взаимоотношений между юношей и женщиной среднего возраста. Тем более что эта причина подается режиссером средствами музыки: Эрика привлекла Вальтера ярким исполнением сочинения Баха. В истории музыкального искусства творчество Баха сочетает высочайший интеллектуализм с сильнейшей эмоциональностью, которая при этом парит над «прозой жизни». Музыка Баха в начале фильма Ханеке — своеобразный «модус», качество чувств, испытываемых Вальтером по отношению к Эрике. Иначе говоря, он, хоть юноша по-современному раскованный, но в начале их отношений ее обожает, наделяет всеми возможными душевными достоинствами, видя в Эрике не столько женщину как объект сексуального влечения, сколько «пианистку»[13] — ту, которая своим исполнительским талантом воплощает в звуках музыки идеальный уровень в человеческом существе. Здесь важно то, что Вальтер, как и Эрика, — человек, «инициированный музыкой». Они оба способны за звучанием произведения — фиксированного нотного текста и его исполнения — воспринимать нечто большее, нежели «просто» звуки, и это «иное» глубоко эмоционально переживать.
Обычно приобщение человека к музыкальному искусству происходит в детстве. «Слабая» сопричастность может возникнуть и при прослушивании музыки, но подлинная — «сильная» сопричастность — связана исключительно с первыми опытами реального музицирования на инструментах либо в пении. Такую сопричастность развивают на этапе начального музыкального образования и как психологический механизм, и как совокупность музыкальных способностей, и как профессиональные практические навыки. Все это впоследствии должно обеспечить выразительное исполнение произведений. Музыкантов-педагогов (как и исследователей музыкальных способностей) интересует только продуктивная сторона этой предрасположенности ребенка (и в дальнейшем взрослого) к исполнительству, и поэтому она уже в течение многих столетий была в фокусе музыкальной науки.
Практически неизученным является когнитивный аспект подобной предрасположенности, который одновременно впрямую связан и с личностью музыканта, и с образами исполняемой музыки. При первом приближении когнитивный аспект охватывает связи, которые возникают между образом, созданным композитором в конкретном сочинении[14], и внутренним миром музыканта в том состоянии, которое наличествует в момент исполнения данного произведения. Возникновение подобной связи сопровождается переживаниями настолько сильными, что они могут констатироваться человеком даже как сенсорные. Крайне важно и то, что музыкальный образ, как феномен идеальный, в момент исполнения музыки из-за описываемой связи для музыканта начинает обладать вполне реальными, достоверными — ибо переживаемыми — свойствами: образ, быть может, созданный композитором несколько столетий тому назад, становится частью личного опыта, более того, частью «я» музыканта-исполнителя[15].
И, пожалуй, самое главное. Так называемое «вдохновение» исполнителя впрямую связано с возбуждением при игре или пении связи между музыкальным образом и личностью человека. При этом для самого музыканта не важно, происходит ли активизация подобной связи в домашнем любительском музицировании или на концертной сцене. Гораздо важнее иное: приятные, одновременно возбуждающие и какие-то тоскливо-обморочные, при этом доставляющие неизмеримое удовольствие ощущения, которыми сопровождается установление связи между личностью и музыкальным образом. Именно о подобных ощущениях-переживаниях великий поэт писал: «души неизъяснимы наслажденья». Природа подобных ощущений, во-первых, компенсаторная по отношению к личности конкретного исполнителя-человека (дает возможность в идеальной форме пережить то, чего у него нет, и чего он неосознанно желает), во-вторых, трансогенная.
Положение о том, что «музыка — наиболее эмоциональный вид искусства», давно считается трюизмом. Между тем для музыкальной науки вовсе не очевидно «местонахождение» пресловутой «эмоциональности». Ее нет в самом звучании, поскольку оно — всего лишь акустический феномен. Чувства и переживания однозначно не закреплены также за какими-либо средствами музыкальной выразительности. Более того, в музыке письменной традиции произведение фиксируется нотной записью как текст, как «немые знаки», которые тем не менее музыканты-профессионалы усилиями внутреннего слуха превращают в представление звучания, которое их волнует точно так же, как звучание действительное, хотя музыка на самом деле не звучит[16].
Все это подсказывает, что когнитивный план музыкально-исполнительской деятельности охватывает/объединяет как личность конкретного исполнителя и формы его психологической активности, так и смыслы, заложенные композитором в конкретное сочинение (в группу сочинений этого автора в случае исполнительской специализации). В акте исполнения психологическая активность музыканта направлена не только на решение профессиональных технических задач, но и на своеобразный «перевод» в идеальную форму своего личного — жизненного и эмоционального опыта. Правила такого перевода задаются формальными особенностями исполняемого произведения, его стилистикой и эстетикой. На пересечении личностного и формального при исполнении музыки и возникает искомый «музыкальный образ». Именно он, с одной стороны, оказывает на слушателей сильнейшее воздействие, и, с другой — позволяет исполнителю перейти в мир идеального, в величайшем наслаждении переживая не что иное, как трансцендирование своего «Я». Трансогенность — это следствие подобных внутренних трансформаций личности музыканта в исполнительском акте, его глубочайшая сосредоточенность на исполняемом произведении и на собственных переживаниях. В состоянии транса у человека меняется чувство темпоральности: он едва ли не в прямом смысле «выпадает» из настоящего времени, переходя в мифологически-универсальную «вечность» музыкального образа.
Только имея в виду охарактеризованную выше когнитивную специфичность исполнительской деятельности, можно понять основополагающее для режиссерской концепции Ханеке признание Эрики в эпизоде ее знакомства с Вальтером: она превыше всего ценит музыку Шуберта. То есть — иначе не сказать — она способна чувствовать только теми эмоциями и переживаниями, которые наличествуют в сочинениях великого австрийского композитора эпохи раннего романтизма. Но в том же эпизоде первого разговора Эрики с Вальтером Ханеке-сценарист подсказывает нам репликой главной героини, «куда» («Wohin?»)[17] приведет ее страстная увлеченность творчеством любимого композитора: музыка Шуберта и Шумана — это мир безумия, в котором она превосходно разбирается, потому что ее отец умер в клинике для душевнобольных.
Эпизод знакомства Эрики с Вальтером поразителен по точности режиссуры, использующей тончайшие и сокровеннейшие психологические закономерности «внутренней жизни» музыкантов-исполнителей. Не менее совершенна и актерская игра Изабель Юппер. Вальтер, чтобы внутренне приблизиться к той, которая так восхитила его своей игрой на рояле, решает исполнить сочинение столь любимого ею Шуберта. Но скерцо, исполняемое юношей, нетипично для основного массива сочинений композитора: это — игриво-шутливая музыка, радостная и полетная. В принципиальном для раскрытия внутреннего мира Эрики очень долгом крупном плане, снятом статичной камерой, Ханеке показывает то, что на самом деле незримо: музыканты, слушая исполнение, познают другого человека[18].
Как это сделано? Зритель понимает, что застывший взгляд Юппер формально направлен на Вальтера, сидящего за роялем. То есть актриса смотрит в объектив камеры, но смыслово ее взгляд устремлен мимо — в другой мир, где все, в том числе и юноша, так настойчиво добивающийся ее внимания, преображается. Мимика на лице героини Юппер отсутствует. Оно превращается в маску, в застывшую мертвую оболочку, в то время как ее живое «Я» находится где-то в другом месте. Но по мере исполнения Вальтером шубертовского опуса Эрика возвращается «оттуда». Лишь мимолетное, презрительно-высокомерное движение губ подсказывает нам, что тот юноша, которого она «увидела», слушая его игру, ей не понравился: он не «шубертовский человек» в ее понимании сути образности в музыке этого художника. Говоря иначе — Вальтер не безумен, он нормальный. И потому «пианистке» чужой.
Уже с эпизода домашнего концерта становится очевидной огромная смысловая нагрузка, которую режиссер возлагает на музыкальное решение. Музыка, звучащая в фильме Ханеке, независимо от того, закадровая она или внутрикадровая, обретает знаковый характер по отношению к психологии главных героев, проявляя их внутренний мир — чувства и мысли. При подобной трактовке музыкального ряда (знаковой, а не образной, как это более типично для киномузыки) зрителю следует научиться своеобразному рациональному его «чтению» в каждом эпизоде, потому что звучащая музыка может как соответствовать изображению, так и ему противоречить. В случае соответствия музыка раскрывает подлинный смысл видимых на экране сюжетных ситуаций, эмоционально усиливая воздействие эпизода на зрителя. В случае противоречия изображению — музыка раскрывает режиссерский замысел, шокируя зрителя несоответствием поведения персонажей «высокому» образному строю звучащей музыки.
Шуберт, Бах, музыка, консерватория… Казалось бы, сюжет фильма должен быть неразрывно соединен с подлинными вершинами человеческого духа и культуры. Ничто в завязке драмы (кроме коннотаций, связанных с музыкой Шуберта) не предполагает в фильме Ханеке такое чудовищное развитие отношений между профессором-пианисткой и ее студентом. И почему тогда воспитанный юноша Вальтер становится способным на изнасилование своего педагога и обожаемой женщины, способным на грубую оскорбительную брань и побои? Откуда берутся у такой сдержанной, буржуазно-регламентированной во всех жизненных ситуациях преподавательницы консерватории какие-то грязные и патологические проявления полового инстинкта вплоть до попыток совокупиться с матерью и сексуального автотравматизма?
Возникновение подобных вопросов указывает: Ханеке трактует «музыкальное» в широком смысле. Это и тематический состав музыкального решения в фильме. Это и знаковая роль Шуберта как личности, как композитора и как культурального феномена в жизни обоих главных героев. Это и психофизиологическая специфичность профессии музыканта-исполнителя. Это и его воспитание в совокупности с дальнейшим образом жизни. Но такая тотальная семиотизация «музыкального» способна объяснить далеко не все в режиссерской концепции «Пианистки».
Столь же важным для появления в фильме — назовем это так — «отрицательной образности» становится еще один смысловой слой. Он связан с мотиваций поведения персонажей, которые для достижения благополучной жизни обязаны соответствовать этическим нормам и поведенческим стереотипам современного общества. В «love story» Эрики и Вальтера эти нормы и предписания буквально взорваны проявлениями жестокости, насилия и патологии. Режиссер показал, насколько нарушение табу, выработанных западной цивилизацией, является болезненным для всех — для самих персонажей, их близких, и, главное, для зрителей. Смотреть «Пианистку» любому человеку мучительно, в особенности тому, кто связан с музыкой профессионально или является любителем этого вида искусства.
3. Код человека неизвестен
Как уже говорилось, все фильмы «о музыке и музыкантах» производят тяжелое эмоциональное впечатление. Иное дело, что для остальных режиссеров картины этого типа являлись всего лишь эпизодом в их творчестве. Потому достижение подобного негативного эмоционального воздействия было не целью авторов, а, скорее, следствием обращения к обозначенной тематике. У австрийского же художника все фильмы, независимо от сюжета, подавляют зрителя какой-то противоестественной конденсацией насилия и, главное, его немотивированностью. Следовательно, отталкивающий психологизм «Пианистки» в режиссуре Ханеке не исключение, а результат последовательной творческой позиции при показе на экране современного человека и состояния основополагающих ценностей в западной цивилизации сегодня.
А образы тех, кто живет рядом с нами, к тому же людей обычных и заурядных, в фильмах австрийского мастера могут вызывать только отвращение. Почти все фильмы Ханеке посвящены современной тематике. Так или иначе, они о том, как повседневность западного обывателя, такого цивилизованного, на первый взгляд, прорастает ужасающими проявлениями дикости, агрессии, насилия и психических патологий. В любой момент каждый человек может стать не только жертвой подобных проявлений, но и их носителем.
В картине «Седьмой континент» (1989) режиссер показывает, какую клоаку тайных желаний носят в себе члены респектабельного семейства. Нет такого места на планете, даже удаленная от центров западного мира Австралия, которое избавило бы человека от отвращения к самому себе. Лента «Видео Бенни» (1992) ставит зрителя перед ужасающим фактом: для современного школьника-старшеклассника из добропорядочной семьи умертвить свою подружку электрошоком и заснять весь «процесс» на видео, все равно что его родителям тем же «орудием» убивать на ферме свиней ради бизнеса. При этом парень не испытывает чувства вины; у него нет ни преступных наклонностей, ни признаков клинического вырождения, которым можно было мотивировать желание убить другого человека. Только какое-то патологическое безразличие с примесью любопытства к процессу умирания, почему, собственно, подросток и снимал убийство на видео. Но уважаемые родители оказываются не лучше своего сына, имея в виду способы, которыми они пытаются защитить свое любимое чадо от наказания за преступление. Зритель, глядя на эту абсолютно неэмоциональную вакханалию безразличия и вседозволенности, закономерно начинает паниковать: в каком мире мы сегодня живем? и есть ли в нашем западном «правовом обществе» законы для людей?
Для людей, быть может, и есть. Но еще представитель раннего «иенского романтизма», Фридрих Новалис, который в таких вещах разбирался на уровне интуиции, сказал: «Не все, кто рядом с нами, люди»…
Действительно, разве можно назвать «людьми» двух этих вежливых, не без внешней привлекательности молодых людей, которые зашли в дом соседей одолжить четыре яйца для омлета? На билетах на фильм Ханеке «Забавные игры» (1997), когда он демонстрировался на МКФ в Канне, печаталось предупреждение о наличии в нем чрезвычайно жестоких эпизодов. Практически невозможно вынести все то, что вытворяют с беззащитным семейством эти нелюди. Ужас зрителя многократно усиливается, когда он осознает (если способен на это от шока), что парни уже убили соседей, живших в доме рядом и от которых, как будто, они пришли, а завтра они будут расправляться с обитателями еще одной виллы.
Но подчеркнем: мы всего этого почти не видим, а только понимаем либо представляем, что творится на территории респектабельных буржуазных жилищ. Реально на экране режиссер показывает намного меньше крови и пыток, физического насилия в целом, нежели это происходит в рядовом голливудском триллере или боевике, даже в пародийно-ироническом, типа «Убить Билла» Квентина Тарантино. Изобразительному строю фильмов Ханеке присуща холодноватая сдержанность, а из-за пристрастия к съемке статичной камерой какой-то заторможенный характер.
По отношению к нашей «Пианистке», в которой патологии сосредоточены вокруг сексуальности, можно говорить даже о целомудренности изображения. Наиболее откровенные кадры — это когда Эрика в кабинке секс-шопа сладострастно вдыхает запах грязной салфетки, испачканной предыдущим посетителем. Но почему-то зрителю от этой «целомудренности» становится намного тяжелее.
У эстетики, разработанной австрийским режиссером, много противников среди кинематографического сообщества, не говоря уже о зрителях, которых его фильмы как будто закручивают в болезненные узлы отчаяния, стыда и ужаса. «Ханеке — сам маньяк и психически больной человек»[19], — подобным стандартным обвинением защищаются те, кто не может рационально мотивировать собственные страх и унижения, пережитые во время просмотра картин режиссера.
Почему сюжеты в фильмах Ханеке касаются каждого из нас? И почему мы их и рассудком, и эмоциями от себя отталкиваем? Но они все равно настигают сознание, заставляя еще и еще раз возобновлять в нашем внутреннем «Я» неимоверно унизительное и гадкое ощущение собственного — а не персонажей фильма — позорного ничтожества, которое монструозно смешано с беззащитностью и каким-то фундаментальным обманом…
Отчаяние от собственной катастрофической беззащитности охватывает нас при просмотре фильма «71 фрагмент хронологии случайности» (1994). В основе картины — реальный криминальный факт: в 1993 году 19-летний венский студент «просто так» — то есть без мотивов ограбления, мести, пусть даже из-за пари с друзьями, др. — перестрелял в банке несколько человек. Ханеке прибегает к жестко-формальной композиции фильма. Он состоит из 71 эпизода. Эпизоды сюжетно не связаны друг с другом, они разрывают, фрагментируют киноповествование. Среди них есть игровые постановочные, есть цитаты телехроники, в которых визуально документированы реальные события того времени — Боснийский конфликт, жизнь бездомных детей в Вене, скандал с поп-певцом Майклом Джексоном.
Все это не страшно. Только в конце ленты, когда прозвучат выстрелы, и уже будут падать окровавленные жертвы, мы начинает понимать, почему Ханеке отобрал этих рядовых обитателей Вены с их затрапезной жизнью в качестве персонажей фильма, и что их, реально незнакомых людей, объединяло. Именно в этот момент нас охватывает ужас. Судьба этих ни в чем не повинных людей в течение всей картины — точно так же, как это было в действительности с теми, кого расстреляли в банке, — катилась прямо под пули. А их, безразлично в кого, выпустит 19-летний лоботряс, который в ничегонеделании одурел от игры в пин-понг с автоматом.
Режиссерская идея этого фильма способна парализовать само желание жить в этом мире: ведь парень, который стрелял в банке, являлся не преступником, не сумасшедшим, даже не кинематографическим «злодеем». Обычный юноша, каких в западном мире миллионы. Судебный процесс над ним показал, что погруженный в безразличие убийца сам не понимал, зачем он совершал преступление. Ханеке же композицией своего фильма художественно переосмыслил реальный факт и поставил зрителя перед куда более ужасающей констатацией: «случайной» смерти от руки «случайных» невменяемых — не бывает, ибо встреча с ними в современном обществе неотвратима, как закономерность.
Получается, что в модели авторского кино, разработанной австрийским режиссером, каким-то образом, и причем непривычно для зрителя, сопрягаются тематика фильмов и механизмы их восприятия. При этом тематика всех картин — так или иначе — связана с концепциями человека и общества через их отрицание. Что это значит? Говоря схематично, режиссер показывает, как живут современные люди в современном западном мире. Но эта «показанная» на экране жизнь категорически и фундаментально не соответствует всем обиходным — мировоззренческим, философским, идеологически-пропагандистским, информационным — стереотипам, циркулирующим в обществе, внедряемым масс-медиа в сознание всех без исключения людей[20]. Зритель, осмысляя сюжетную сторону фильмов Ханеке, логику поведения персонажей в них, закономерно руководствуется этими стереотипами инклюзивной логики. В соответствии с ней те люди, которые «пробивают» границы порядка, поступают «по правилам» современного нового мира. Потому их поступки нельзя считать шокирующим исключением из нормы. Но режиссер показывает, что современный человек, жизнь современного западного общества в целом — другая, причем, катастрофически другая. Его реальная катастрофичность соответствует именно эксклюзивной логике и может быть объяснима только с ее позиций. Попросту говоря, если над тобой творят насилие, — то это чрезвычайный случай, требующий восстановления «порядка», нормы. Тогда насаждаемые стереотипы инклюзивной логики оказываются не чем иным, как обманом или идеологической пропагандой.
С одной стороны, такое несоответствие воспринимается зрителем как беспричинность, немотивированность поведения и поступков героев. С другой же, лишившись спасительного и успокаивающего пребывания в заблуждении (в чем конкретно эти заблуждения состоят, — далее) мы ощущаем все события фильма, как развернутые на нас лично. Традиционно, в особенности в жанровом кинематографе, зрители легко проводят демаркационную черту между персонажами, определяя, кому следует сопереживать как «положительному» герою, а кого следует считать «негодяем», с нетерпением ожидая его разоблачения и наказания.
В фильмах Ханеке этого сделать нельзя. Их сюжетно-тематическая сторона организована таким образом, что есть либо закономерно беспомощные жертвы, и их обреченность неизбежна, либо те, кто используют насилие как способ выживания и самоутверждения среди других, как единственно продуктивную стратегию поведения в ситуациях, заданных режиссером. Естественно, что из чувства психической самозащиты либо нравственных установок зрители не желают отождествляться ни с теми, ни с другими. В своих сценариях режиссер отказался от привычного для литературы, театра и кино психологического механизма идентификации с персонажами. При просмотре картин австрийского художника с их констатирующим, почти репортажным по стилистике изображением это ставит зрителей перед иной, еще более травмирующей проблемой: они остаются один на один с документально снятой реальностью, в которой мы все обречены жить, настолько она узнаваема. Но выводы зритель должен сделать сам, осмысляя увиденное, потому что в фильмах Ханеке нет ни поучений, ни идеологически значимых акцентов.
Например, в фильме, предшествовавшем «Пианистке», — «Код неизвестен» (2000) — строение такое же, как в «71 фрагменте…»: картина состоит из множества эпизодов, в которых только одни и те же персонажи позволяют пунктиром прочертить несколько сюжетных линий. Одна из них тематически посвящена жизни в Париже эмигрантов из бедных стран «третьего мира» — уже легализированных африканцев и «нелегалов» из Румынии, которые тайно пробираются во Францию в пустых железнодорожных цистернах. Мария, жительница румынской деревушки, в разговорах с односельчанами сетует, как тяжело и унизительно зарабатывать в богатых цивилизованных странах деньги. Она нищенствует в Париже, выклянчивая франки у жителей столицы, презирающих эмигрантов, кто-то нянчит детей в семье ирландских врачей в Дублине, а кто-то вынужден собирать виноград в Италии. Естественно, что в этих эпизодах зрители, разделяющие либеральные взгляды, не говоря уже о концепции мультикультурализма, столь популярной в постмодернистской гуманитарной мысли, должны преисполниться сочувствием к обездоленным румынам, вынужденным добывать средства к существованию на чужбине.
Но зачем все это нормальным крестьянам, которые во всех странах мира зарабатывают себе на жизнь трудом на земле? И когда камера Юргена Юргеса, оператора многих фильмов Ханеке, берет сверхобщим планом улицу современной румынской деревни, то столь любимая обоими симметричная композиция долго длящегося плана представляет документальную картину, художественно осмысляющую разговоры жителей деревни и подталкивающую зрителя к отнюдь не политкорректному выводу. По обе стороны дороги сплошной вереницей, уходящей в перспективу, высятся новые громадные многоэтажные особняки, как уже достроенные, так и еще в лесах. Мария тоже возводит такой же дом, к которому ее подвозит сосед на джипе одной из самых дорогих марок.
Зритель до того, как увидит этот эпизод, уже знает, что главная героиня фильма Анн (Жюльетт Бинош) ютится в крохотной двухкомнатной квартирке в явно не престижном районе Парижа. А она, между прочим, по сюжету — востребованная актриса, постоянно снимающаяся в кино и много работающая в театре. Анн так загружена, что завтракает на ходу булочкой, купленной по дороге в магазине рядом с домом. Точно также в постоянных командировках по «горячим точкам» мотается ее возлюбленный, Жорж, по профессии фотограф и военный журналист. Он живет в квартире Анн, и по фильму мы не знаем, есть ли у него свое жилье вообще.
Особенно впечатляет визуальное сопоставление образа жизни, который ведут различные персонажи второго плана в фильме на фоне кухонь. Ханеке сопоставляет кухни в парижской квартире чернокожих эмигрантов и деревенском доме фермера-скотовода — отца Жоржа. В первом случае в арочном проеме мы видим блеск хромированного металла, яркий пластик и горизонтальные линии дизайна в стиле хай-тек. Все это сопровождается праздными разговорами африканского семейства или о культах и ритуалах оставленной родины, или о наркотиках, или о ненависти к белым. Скудный же обед из тушеной свеклы пожилого, изможденного тяжелым трудом отца Жоржа и его младшего брата, мечтающего сбежать из бесперспективной жизни в провинциальной глуши, проходит в убогой захламленной кухне, шкафчики и кафель в которой, очевидно, еще довоенного происхождения.
Ясно, что подобные визуальные контрасты указывают на контраст в положении материальном, и, более того, на контраст в «идеологической защищенности» коренных обитателей западного мира и «пришельцев». Но об этом в сценарии Ханеке — ни слова. Зритель сам должен осмыслить увиденное. Только тогда он воспримет как вакханалию насилия, как образ подлинной катастрофы один из финальных фрагментов фильма — хулиганскую выходку в метро двух молоденьких арабских пареньков. Они пристают к Анн, зрелой в сравнении с ними женщине, и оскорбляют всех французов, едущих в этом вагоне, независимо от возраста и пола, — в принципе, всех людей Запада. Чем мотивирована в этом случае ненависть инокультуральных юнцов? Ведь европейцы ведут себя по отношению к ним в высшей степени «толерантно»: снимают очки, готовясь к побоям, молча, не прекословя ничем, пересаживаются на другие сидения, глотая слезы, вытирают плевки с лица.
Приведенный пример — это и режиссерское осмысление современного западного общества и людей, в нем обитающих, это и разработанные для этого средства, причем важнейшие их них направлены на изменение стереотипов восприятия зрителями экранного зрелища. Эпизоды из картины «Код неизвестен» показывают, как достигается смысловая рассогласованность вербального, визуального и драматургического компонентов фильма, создающая для зрителей психологически проблемную ситуацию: чему верить — диалогам? изображению? сюжету? Точно по такому же принципу Ханеке добивался рассогласованности образов звучащей музыки и действий персонажей, их психологических состояний в фильме «Пианистка». Зритель сам должен придти к выводу: вербальная (музыкальная) сторона фильма значима лишь в той мере, в которой она сопоставляется со смыслом изображения и им же верифицируется.
Здесь следует также иметь в виду, что экранное изображение, если оно не носит подчеркнуто формального, аттрактивно-новаторского и, тем самым, специально привлекающего внимание зрителя характера, воспринимается в кино как нечто само собой разумеющееся. Зрители не приучены концентрироваться на «картинке». Для них главными в игровом фильме являются все-таки сюжет и актерская игра. В авторском кино Ханеке — по-иному: именно изображение несет главную и предельно точную информацию о материальном мире и о персонажах, позволяющую приблизиться к основному в его фильмах — их внутреннему миру и образам общества.
Режиссер здесь следует традиции, полагающей актеров главными носителями психологической достоверности персонажей, воплощаемых на экране. Но ведь почти все активно действующие в киноповествовании герои в фильмах Ханеке обладают явными деформациями психики…
4. Человек постиндустриальной эпохи в кинематографе Ханеке
Желание осмыслить идеи австрийского режиссера требует от исследователей и зрителей определенного мужества, потому что разбираться нужно с материалом, вызывающим исключительно негативные эмоции. Но как любое авторское кино, фильмы Ханеке рассчитаны, прежде всего, на зрителя интеллектуального, который способен вести диалог с режиссером, серьезно изучавшим в университете именно психологию, социологию и философию, прежде чем заняться собственно творчеством в театре, на радио и в кино.
Мы видим, насколько образы современного человека и современного западного мира, созданные австрийским художником, не соответствуют распространяемым СМИ стандартным представлениям о них, или получаемым нами при поверхностном знакомстве с жизнью людей в «свободном либеральном обществе». По этой причине, чтобы понять и преодолеть разработанный режиссером принцип восприятия своих фильмов, буквально вгоняющий зрителя в состояние ужаса, отчаяния и унижения, необходимо иметь в виду как минимум четыре концепции. Так или иначе, все они в последней четверти прошлого столетия являлись базисными для психологических и философских дисциплин, изучавшихся в любом западноевропейском университете, влияя на формирование обобщающих представлений о современном обществе и о современном человеке. Именно с этими основополагающими концепциями, на наш взгляд, полемически работает Ханеке в созданной им модели авторского кино.
Концепция первая и, пожалуй, наиболее важная для размышлений Ханеке о человеке постиндустриальной эпохи. Это — капитальное исследование выдающегося американского психолога Абрахама Гарольда Маслоу «Мотивация и личность». Принципиальные идеи исследователя сложились еще в начале 50-х гг[21].
В его концепции мотивы поведения имеют иерархический характер: от первичных, базовых, которые необходимы индивиду для элементарного выживания и психического здоровья, к высшим, обусловливающим уже личностную состоятельность человека. <…>
Прямым свидетельством того, что австрийский режиссер знает об иерархической структуре потребностей, постулируемой Маслоу, является сюжет фильма «Время волков» (2003). Его экспозиция представляет собой вначале катастрофическое крушение гарантий базовой потребности в безопасности: фильм начинается с убийства чужаками (и явно не французами) отца семейства. Затем группа уцелевших в катаклизме непонятного происхождения «нисходит» в своих потребностях к физиологическим голоду и жажде. Только у тех, у кого есть еда и питье, действует сексуальная потребность, низведенная с личностно и эмоционально окрашенных взаимоотношений между мужчиной и женщиной к половому инстинкту. Распад общества и его институтов ведет к деградации людей: высвобождается из-под запретов насилие как единственный способ выжить. Исключение представляют персонажи, либо физически не способные его творить по отношению к другим (старики, дети, больные), либо хранящие верность этическим законам цивилизации и гуманности, нескрываемо отождествляемыми Ханеке с заветами христианства. Только они не теряют человеческий облик. Но в фильме о «конце истории» такие люди закономерно становятся жертвами ситуации и обречены на смерть.
<…>
Казалось бы, режиссеру не найти более понимающего и отзывчивого зрителя для своих картин, нежели российский: наши соотечественники, к сожалению, уже более десятилетия видят вокруг себя этот «риск жить». Но откуда черпает идеи своих сюжетов Ханеке? Ведь герои большинства его фильмов (за исключением «Времени волков») существуют и действуют в цветущем рае благополучного быта и либеральных свобод. Откуда же тогда берутся все эти патологические проявления? Или, быть может, в наших представлениях о современном западном обществе мы руководствуемся не реальными знаниями о «жизни там», несмотря на отсутствие «железного занавеса», а какими-то идеологически-пропагандистскими стереотипами?..
Творчество Ханеке бесстрашно и безжалостно разрушает привычную и успокоительную идеализацию людей и их существования в «хорошем» либеральном обществе. Следовательно, в фильмах австрийского мастера речь идет о каких-то фундаментальных «неполадках» в современном западном мире, которые катастрофически влияют на состояние психики едва ли не каждого человека.
<…>
Именно экспрессивные по происхождению навязчивые состояния имеют прямое отношение к детерминациям поведения персонажей с преступными проявлениями в таких фильмах Ханеке, как «Видео Бенни», «Седьмой континент», «Забавные игры», «71 фрагмент…». Видимыми на экране признаками навязчивых состояний являются спонтанно-взрывные выплески напряжения, различные действия, в которых выражается возбуждение, как приятное, так и наоборот, а также не преодоленные чувства обиды, унижения, неосознаваемые зависть и ревность, шире — навязчивые попытки компенсации пережитого когда-то дефицита в удовлетворении базовых потребностей.
Перед нами не что иное, как полный набор детерминаций, обусловливающих как поведение главной героини в фильме «Пианистка», так и характер ее взаимоотношений с Вальтером. Например, отталкивающий эпизод драки Эрики с матерью — это экспрессивное проявление, детерминированное унизительным для взрослой женщины постоянным контролем за ее жизнью со стороны родительницы; намерение искалечить руки своей студентки битым стеклом детерминировано неосознаваемой ревностью и т.д. Более того, вся последовательность событий, составляющая сюжет в картине, — это показ режиссером того, как «выглядят» экспрессивные проявление того или иного персеверативного фактора.
Так становится понятным, почему нечеловечески жестоких персонажей в картинах Ханеке нельзя атрибутировать как «отрицательных» — как «негодяев», «преступников», «маньяков», «душевно больных» или «сумасшедших». Нет, они абсолютно нормальные и здоровые — в психопатологическом смысле — люди, потому что действуют в рамках «святого» для личности права спонтанных экспрессивных проявлений.
Получает также объяснение и вялость драматического действия, которая заложена в сценариях фильмов самим режиссером: на первый взгляд — то есть сугубо формально — в современном постиндустриальном обществе либеральных свобод нет и не может быть конфликтов. Поэтому нет и драмы отношений между людьми. Самое же главное — проясняются причины этого «нечеловеческого» безразличия мучителей и палачей к страданиям жертв, которые точно так же безразлично и случайно выбираются из окружения в качестве объекта жестокости. Действия насильников подаются режиссером по ситуативному контексту не как функциональные — то есть мотивированные какой-то важной для персонажей причиной, а как экспрессивные, в навязчивости которых нет смысла. По Ханеке, никто из персонажей в его фильмах не в состоянии рационально осознать, почему жизнь общества сегодня чревата для всех перманентной угрозой. А это — главный фактор навязчивого поведения, которое, запечатленное в визуальных образах, производит на зрителя столь шокирующее впечатление.
<…>
Ханеке не скрывает своей позиции в отношении показа насилия на экране: «Главная моя задача — отойти от социально-психологических объяснений, которые успокаивают зрителей, оставляя насилие за пределами их личного опыта»[29]. Вот почему нам так неприятно смотреть фильмы австрийского художника. И еще одна причина негативного их воздействия, как на массового зрителя, так и на представителей киносообщества: картины Ханеке в действительности посвящены изображению полного фиаско идиллических представлений о «тотальном счастье», установившихся с конца 60-х гг. ХХ в. на пространствах западной цивилизации после «бархатного» революционного перехода от традиционного буржуазного к глобалистскому мироустройству. В ценностном аспекте модернистский и глобалистский Запад не то что не тождественны, но по многим параметрам противоположны друг другу. Иной вопрос, что для массового сознания «новые ценности» неочевидны в качестве таковых.
5. Девиантность: визуальная культура современности и насилие на экране
Но Ханеке не принадлежит к социально ориентированным художникам, которые стремятся обличить политические либо экономические основания «неполадок» в обществе. Пространство его поисков — это психология современника и контекст культуры. Режиссер — не критик, не борец, а, скорее, диагност. Диагностика же начинается с того, что перед врачом оказывается больной. Кого же избирает режиссер в качестве главных героев своих фильмов?
Концепция вторая. Это также классические для современной науки капитальные исследования Эмиля Дюркгейма в области социологии «Самоубийство» (1897) и «Элементарные формы религиозной жизни» (1912). И хотя они появились на полстолетия раньше труда Маслоу, но до сих пор не потеряли способности объяснять природу антиобщественных проявлений человека. В отличие от американского психолога, который во второй редакции своего труда скорректировал представления о «психически здоровом» индивидууме с новым («перестроечным» для Запада) идеологическим контекстом конца 60-х гг., концепция Дюркгейма обладает логически безупречным характером.
Исследователь анализировал ценностно-нормативные системы общества, разрабатывая при этом строгие методы исследования социальной реальности. Дюркгейм выделил в качестве основного объяснительного принципа человеческого поведения т.н. коллективные представления как особые факты социальной жизни, которые определяют видение мира отдельной личностью. Значимость трудов этого ученого сегодня велика не только по причине их авторитетности в социологическом знании. Важна также четкость и бескомпромиссность (имея в виду сегодняшнюю релятивность каких бы то ни было оценок вообще), с которой Дюркгейм в свое время разрабатывал объективные научные основания для ответа на вопрос, едва ли не важнейший в понимании человека и общества: где граница между свободой твоей и свободой моей? Потому что перейдешь границу — и это будет насилием над другим, будет преступлением.
Ученый считает, что без насилия сосуществование людей в обществе возможно только при наличии внешней по отношению к каждому человеку «границы свободы»[30]. Ее устанавливают культура, право, религия, семья и др. социальные институты в виде этических, юридических и медицинских норм. Отклонение от нормы, собственно, девиантные формы поведения (в терминологии Дюркгейма «аномия») — это противозаконные попытки самоактуализации людей.
В этом чаще всего виновато само общество. Оно может быть неспособным создать действенный механизм сравнения одних людей с другими, чтобы каждый мог без иллюзий реалистически оценить свое место в группе, к которой он принадлежит. Возможно также, что нормы и эталоны, при помощи которых одни люди сравнивают себя с другими, становятся недейственными: они не отвечают новым стремлениям, полагаемым людьми в качестве жизненных целей. Кроме того, девиантность может возникнуть и оттого, что нормирующие совместную жизнь институты не в состоянии привить членам общества владение этическими, социальными и инструментальными средствами, помогающими осуществить людям их ожидания и стремления.
В результате возникает катастрофическое и трагическое для всех — для общества, для конкретного индивидуума и людей, которые его окружают, — несоответствие между потребностями, желаниями и реальными возможностями их осуществить. Это несоответствие, независимо от его осознанного или, наоборот, неосознаваемого характера, и является главным фактором для возникновения девиантным форм поведения — от преступления, когда насилие применяется по отношению к другим, до самоубийства, когда индивид сам для себя становится объектом насилия.
В кинематографе Ханеке мы находим буквально каталог неудовлетворенных потребностей, для «утихомиривания» которых нужно — как ни дико это звучит — именно преступление. Индивидуумы, стремящиеся противозаконно самоактуализироваться, начинают восприниматься зрителями в фильме (сообразно сюжету, разработанному Ханеке) как лица с преступными наклонностями и психопатологиями. Способность к немотивированному насилию у целой вереницы персонажей, созданных режиссером, заключается в том, что никто из окружающих их людей добровольно не даст того, чего им хочется. Они не в состоянии рационально оценить уровень своих притязаний во взаимоотношениях с другими. И норм, способных обуздать прорывающуюся наружу девиантность, они тоже не знают. В результате у подростка Бенни («Видео Бенни»), видите ли, не удовлетворены высшие потребности — когнитивная (ему просто «интересно» узнать, как умирает человек) и эстетическая (он же снимает об этом кино). У Петра и Павла («Забавные игры») не удовлетворены базовые потребности в принадлежности и признании. У студента-убийцы («71 фрагмент…») — в самоактуализации. У Амаду, старшего сына чернокожего семейства, так же, как и у арабских юнцов («Код неизвестен»), постоянно проявляется агрессия по отношению к французам; причиной тому — несоответствие реальной роли, которую иммигранты играют в культуре Запада в сравнении с коренными европейцами, притязаниям юноши и его семьи на значимость (потребность признания) в парижском этническом конгломерате.
Мастерство Ханеке-психолога очевидно в режиссуре «Пианистки» — в формировании образа главной героини, ее взаимоотношений с Вальтером и матерью (Анни Жирардо). Все проблемы Эрики связаны с тем, что у нее не удовлетворена потребность самого нижнего инстинктоидного уровня — половая. <…>
Обратим внимание, если для Маслоу самоактуализация человека — это, безусловно, его «святая» потребность, не говоря уже о базовых потребностях в Любви и признании, то для Дюркгейма все это, скорее, наиболее болезненные, даже самые опасные факторы в сосуществовании людей. Потребности по своей психологической природе являются психологическим инструментом для самоутверждения человека в обществе себе подобных. Реализация потребностей может перейти в насилие как крайнюю меру для их удовлетворения, ибо Любовь и признание индивиду должны дать те, кто его окружает. Поэтому положение Дюркгейма о «реалистичности» самооценки восходит, в конце концов, при всем научном прагматизме его автора, к решению проблемы в соответствии с христианскими заветами о греховности гордыни. Ее нужно постоянно усмирять, сообразуясь с принятыми в обществе моральными нормами и эталонами поведения. В противном случае, все, что стимулирует индивида на активную реализацию потребностей, которые зависят от доброй воли и свободного желания других людей их удовлетворить, провоцирует вследствие и преступность.
Как мы видим, Маслоу возлагает бремя удовлетворения наиболее психологически «взрывоопасных» потребностей на «хорошее государство», в то время как Дюркгейм, исходя из понимания кризиса буржуазного общества, возлагает ответственность либо на самого человека, либо социальные институты с их санкциями. Кроме того, и культура должна нести ответственность за человека.
Почти в каждом фильме австрийского художника есть эпизоды цитирования видеоматериалов, о чем уже говорилось. Сейчас важно то, что, за исключением фотографий-портретов в фильме «Код неизвестен», по содержанию изображения все они связаны либо с насилием, либо с аморальностью. В кино, телевидении и компьютерных зрелищах насилие и совокупление обрели привлекательность, превратившись в соблазн для зрителей. При этом изображение также силовым — шоковым — образом воздействует на аудиторию. Западная критика давно заметила, что Ханеке последовательно дезавуирует визуальную культуру современности как провокатора насилия. Большинство исследований, описывающих моделирующие эффекты насилия на телевидении, считает негативными такие аспекты его воздействия на зрителей:
— во-первых, уничтожение нормальных запретов, которые существуют у человека по отношению к совершению насилия;
— во-вторых, растормаживание сознания зрителей по причине научения установке одобрять агрессию;
— в-третьих, повышение общего уровня возбудимости у зрителей, в особенности молодежной аудитории;
— в-четвертых, обучение характеру и скорости реакции, которое происходит именно через визуальные электронные СМК;
— в-пятых, изменение посредством показа насилия на экране общей аффективной (эмоциональной) реактивности зрителя, что, в свою очередь, может привести к жестокому поведению[31].
Сцены насилия в фильмах Ханеке часто происходят «под аккомпанемент» визуальных цитат. Например, в «Забавных играх» издевательства парней над беззащитным семейством разворачиваются на фоне телевизионной передачи о преступности и фильмов-боевиков, в изобразительной стороне которых много убийств и крови. Работающий в доме жертв телевизор, таким образом, создает второй план действия. Он не только зловещий по изобразительности, но и дает сугубо отстраненный интеллектуальный комментарий к насилию подлинному. Возникающий диссонанс между преступлением, осуществляемым персонажами фильмов и показанным «документально» как жестокое и немотивированное действие, и преступлением, приукрашенным и даже опоэтизированным в современной визуальной культуре, является поводом для вывода о том, что режиссер «воюет» с насилием на экране.
Ханеке не отрицает подобного понимания его творчества. Когда киносообщество начало упрекать режиссера в немыслимой жестокости этой картины, он ответил: «Фильм — не о насилии, он о показе насилия на экране и его эксплуатации в средствах массовой информации»[32]. Логичен вывод: Ханеке осознал, что визуальная культура современности, помимо всего прочего, — это еще и своеобразная «школа», обучающая зрителей противозаконным способам самоактуализации посредством насилия. Так происходит из-за того, что на кино-, теле- и компьютерных экранах насилие изображено как героика, не вызывающая отвращения и ужаса, вплоть до ее поэтизации[33]. «Насилие не должно быть приятным в употреблении», — настаивает австрийский режиссер.
То же самое можно сказать и о половом влечении, изображенном на экране. Когда без фильтров художественности визуализируется спаривание кого-либо и как-либо, — то это не что иное, как провокация современной культуры по отношению к человеку. Например, целомудренная старая дева Эрика получает информацию о том, как «выглядит» половой акт, в кабинке секс-шопа, где демонстрируются порно-фильмы. Естественно, представления какого свойства о телесно-физиологической стороне любви мужчины и женщины она почерпнет в подобных изображениях. Потом преподавательница конкретизирует их своему студенту (и зрителям) в физических действиях, которые можно квалифицировать исключительно как сексуальное домогательство, то есть — насилие. В письме к Вальтеру Эрика педантично изложит свои представления об их отношениях: только совокупление, и притом в извращенных формах. Юноша, прочитав этот патологический бред, мотивированный, с одной стороны, неудовлетворенным половым инстинктом, и с другой — навязанными современной культурой любому обывателю представлениями о необходимости «раскрепостить свои фантазии», — имеет все основания возмутиться: «Ты больная!». А ведь Эрику «желать» и «не стесняться своих желаний» (Д. Нагиев, «Окна») научила порно-индустрия, а не нормальные отношения мужчины и женщины, которые друг друга если не любят, то хотя бы без моральных травм доставляют физиологическое удовольствие.
6. Эстетика изображения в фильмах Ханеке
Ранее говорилось об одной из причин болезненности просмотра фильмов Ханеке для зрителей. Теперь — о другой. Да, режиссер осознает свою конфронтацию с визуальной культурой современности. Именно она и масс-медиа в целом аномально заинтересованы проявлениями девиантности, прежде всего, насилием и сексом с их последующей апологетикой. А ведь как кинематографист Ханеке тоже входит в визуальную культуру. Поэтому целесообразно указать основные признаки стилистики изображения, в том числе показа девиантных действий, в фильмах режиссера, разработанные, как нам представляется, с двумя целями. Первая: чтобы противопоставить свое творчество общему массиву визуальной продукции. И вторая: чтобы достичь такого качества изображения, которое бы не отчуждало от зрителей противозаконные способы самоактуализации, показываемые на экране. В результате насилие персонажей фильма над своими жертвами начинает восприниматься как направленное на тех, кто его смотрит. Перечислим основные признаки эстетики изображения в фильмах Ханеке, отдавая себе отчет в том, что в игровом кино они неразрывно связаны с особенностями киноповествования в целом.
1) Резкое замедление темпа в организации экранного зрелища в сравнении со скоростями, свойственными теле- и компьютерным зрелищам, — реально намного более значимым областям визуальной культуры сегодня, нежели искусство кино. В них скорость изменений в изображении используется для агрессивного угнетения рациональности зрителей. Особенно этому способствует интерактивность — атрибут работы пользователей ПК[34]. Скорость изменения изображения позволяет включить неосознаваемые факторы при переработке информации, и на этом уровне происходит ее усвоение. Но помимо темпа изменений как такового, сильнейшее воздействие телевизионной информации на зрителя заключается еще и в смысловом параллелизме и функциональных дублировках визуального, вербального и звукового факторов. В этом смысле любой телепродукт — реклама, клипы, репортаж, реалити-шоу, др. (за исключением жанра ток-шоу) — по воздействию агрессивен и грубо прямолинеен. И потому специфика телевизионного зрелища заключается не только и не столько в темпе как скорости, сколько в интенсивности давления на сознание зрителя.
В киноискусстве же визуальность, вербальный компонент (внутренний — драматургия, и внешний — диалоги и их содержание) и звук в фильме, работая на общую задачу, тем не менее ориентированы на присущие каждому из них способы переработки информации. Выполнение требования «нельзя, чтобы элементы киноповествования по своим функциям дублировали друг друга», усваиваемого будущими режиссерами еще на этапе обучения, во многом является залогом достоинств фильма — его смысловой глубины и эмоциональной выразительности.
Творчество Ханеке показывает, что режиссер не только постоянно помнит об этом завете, но и вывел его соблюдение на уровень художественного метода. Во всех его фильмах — так или иначе — рассогласованы смысловая сторона изображения, диалогов и действие, обусловливающее движение сюжета. В результате зритель вынужден активно включаться в осмысление киноповествования, чтобы попросту понять содержание каждого эпизода. Для этого Ханеке действительно снижает скорость изменения/чередования тех элементов киноповествования, которые контрастируют друг с другом по изображению. Прежде всего, это касается длины монтажных кусков. Режиссер предпочитает большие по временной длительности планы, в которых действие сконцентрировано на показе одного и того же персонажа или одной и той же предметной среды.
2) Регистрирующий (неэкспрессивный) характер изображения и отсутствие деформаций снимаемых объектов — главного признака в киноискусстве субъективного отношения режиссера к реальности — является ведущим стилевым признаком в фильмах Ханеке. Режиссер стремится создать некую «объективную» картину жизни в своих фильмах, которая мгновенно ассоциировалась бы зрителями с современностью. Поэтому австрийский художник не стремится к новаторству в сфере изобразительности. Изображение в фильме не должно «мешать» узнаванию жизненных ситуаций и пониманию поступков персонажей, которые, как мы старались показать, в кинематографе Ханеке предельно сложны и перегружены психологическими и сугубо интеллектуальными аллюзиями.
3) Отсутствие зрелищности как «силового способа» для привлечения внимания зрителей к фильму. Зрелищность в современном кино, в особенности голливудском, является мощнейшим средством как эстетизации кинопродукта, его изобразительной стороны, так и способом активизации внимания зрителя к тому, что показывают на экране. Зрелищность, при всех ее положительных сторонах, тем не менее подавляет способность зрителя к диалогическим взаимоотношениям с режиссером и его идеями, с режиссерской концепцией конкретного фильма. Ханеке создает принципиально не-зрелищное кино, рассчитывая на зрителя, способного не только к переработке визуальной стороны его картин, но и к активному осмыслению его авторской позиции по отношению к современности. Подобное целеполагание изображения (помимо его жестокости и интеллектуального характера), безусловно, не способствует признанию зрителей. Но отсутствие зрелищности, как это ни парадоксально, выделяет режиссера из контекста визуальной культуры, деятели которой напряженно работают именно над тем, чтобы создать новые средства и приемы для вовлечения зрителя в ее поле.
4) Композиция кадра активизирует внимание зрителей к смыслово значимым деталям в изображении. Можно говорить о подлинном творческом содружестве Ханеке и его постоянного оператора Юргена Юргеса. В этом содружестве выработалось своеобразное разграничение созидательных функций каждого из них, что оказалось очень продуктивным при документальной стилистике изображения. Очевидно, что определение длительности монтажного куска — это прерогатива режиссера. Важно иное, определяющее задачу тандема «режиссер—оператор» в кинематографе Ханеке: предметное содержание кадра и последующее воздействие этого содержания в уже смонтированном материале на зрителя.
Режиссер явно предпочитает съемки на натуре (современный город, пригород, деревня; изредка действие переносится на природу, хотя отсутствует панорамное любование пейзажем) с их естественной освещенностью. Внутренние помещения — это чаще всего реальные интерьеры, а не их имитация в павильоне, которая, очевидно, применялась в ряде эпизодов «Пианистки» (заметно по характеру освещенности). Так или иначе, постановочные усилия режиссера совместно с оператором, формирующие предкамерную реальность, направлены во всех картинах Ханеке на одно: создать для зрителя максимальную иллюзию «настоящей» реальности, в которой происходит действие фильма. Подобная иллюзия возникнет лишь тогда, когда происходящее перед камерой обнаружит собственный ритм движения, заживет независимой от сюжета динамикой. Ясно, что действия массовки (эпизоды на улицах) и ансамблей персонажей (групповые сцены) ставит режиссер. Но зафиксировать в них движение, с одной стороны, стремящееся к подлинности хроникальных документов, а с другой — несущее художественною выразительность, необходимую режиссеру, поймать такую специфическую выразительность в объектив камеры и «додержать» ее по времени, чтобы движение перед камерой стало заметным, — это может только оператор.
В результате Юргес, ориентированный режиссером преимущественно на съемки статичной камерой, обязан видеть предкамерное пространство как картину, изначально независимую от его и режиссера творческой воли. В этой картине есть свои смысл, логика и цель ее существования. Чтобы это обнаружить, «взгляд» неподвижной камеры должен длиться довольно долго. Камера превращена Юргесом в застывшего перед реальностью наблюдателя, бесстрастно следящего за тем, что происходит перед ней. Кроме того, внутреннее движение предкамерной реальности может проявиться только при наличии жесткой композиционной структуры кадра. Это объясняет пристрастие и режиссера, и, соответственно, Юргеса к его симметричности. Симметричные и по организации предкамерного пространства, и по установке камеры, долго длящиеся планы являются наиболее смыслово насыщенными в фильмах Ханеке. Их длительность позволяет зрителю разглядеть «говорящие» детали предкамерной реальности, которые в фильмах Ханеке оказываются намного более значимыми и правдивыми, нежели слова людей, — реплики персонажей, которые мало чего понимают в мире и в самих себе.
<…>
Так, без осмысления композиции кадра нельзя понять смысл финала в картине «Пианистка». Реально можно было бы ставить в действии «точку», когда окровавленная Эрика, избитая и изнасилованная Вальтером, открывает матери дверь, им запертую. Тогда этот фильм можно было бы считать классической психологической драмой. Но Ханеке на этом киноповествование не завершает, и может показаться, что режиссер переводит его в абсурдистско-пародийную плоскость. Только характер изображения дает нам понять, что это — не так. Перед концертом Эрика достает из ящика огромный кухонный нож и кладет его в вечернюю сумочку. В вестибюле консерватории она ждет Вальтера, который пришел-таки вместе со своей родней послушать Шуберта в ее исполнении. Юноша демонстрирует профессору подчеркнутое почтение и безразличие, как будто ничего между ними не происходило.
И вот подлинный финал: лицо Эрики дается крупным планом. Она стоит не только идеально по центру кадра, но даже на фоне симметричных деталей интерьера в фойе консерватории (за ее спиной — простенок, по обе стороны которого двери с симметрично расположенными световыми пятнами ламп). Эрика достает этот громадный нож, совершенно не приспособленный для того, чтобы им кого-нибудь убивать, картинно втыкает его в верхнюю часть груди, очевидно попадая в ключичную кость, потому что пятно крови на белой концертной блузке — небольшое. Дальше — самое главное для понимания режиссерской концепции фильма. Крупным планом строго симметрично показан освещенный фасад консерватории и входные стеклянные двери. Изнутри к ним по диагонали кадра идет Эрика. Затем также строго симметрично неподвижной камерой снят вход в консерваторию общим планом, и по проезжей части мимо него безразлично проезжают автомобили. Это — абсолютно документальный по характеру и нейтральный по эмоциональности фрагмент, разительно не соответствующий драматичности действия. Выбежавшая из освещенных дверей в осенний вечер женщина в легкой одежде выглядит маленькой посторонней темной фигуркой, искажающей своим судорожным движением строгую симметрию предметного мира кадра. Движение Эрики нарушает эту совершенную гармонию освещенных геометрически-рациональных форм, воплощающих на экране образ сияющего светом храма искусств.
«Wohin?» — так и напрашивается вопрос, сформулированный по-шубертовски, — она убежала, очевидно, оставшись живой? Ответ дает изображение: если сияющий светом вход в консерваторию достоверен, как сама реальность с присущей ей гармонией, покоем и красотой, то затененная боковая рамка кадра, за которой скрылась «пианистка», не что иное, как «обочина жизни», «тьма», мир безумия, с которым она посредством музыки великого композитора-романтика давно испытывала душевное сродство.
Мы видим, какая большая смысловая и образная нагрузка ложится в кинематографе Ханеке на визуальную сторону фильмов, казалось бы, такую традиционную по характеру. В результате симметричность как художественное свойство киноизображения становится одной из примет творческого метода режиссера, вместе с оператором не копирующего реальность (как можно было полагать, исходя из ориентации изображения на документальность), а ее открывающим, обнаруживая доселе неизвестные ее свойства и закономерности. Но, подчеркнем, не творящим, что является главным признаком субъективной позиции режиссера-художника в киноискусстве и по отношению к миру, и по характеру творческой работы при создании фильма. Отмеченные же нами особенности совместного творчества Ханеке и Юргеса при формировании изображения объясняют сдержанность, эмоциональную холодноватость картин австрийского художника.
5) Монтаж как основной фактор киноповествования. Монтаж в творчестве любого крупного режиссера всегда значит так много, что заслуживает отдельного и специального разговора. Именно с монтажом, причем наиболее традиционного типа — повествовательным — в фильмах Ханеке связана организация киноповествования. Во-первых, содержательно-смысловая его сторона; во-вторых, композиция (строение) фильма — связная или фрагментарная; в-третьих, темпоральные качества экранного зрелища, его динамика и логичность, как внешняя (событийное действие), так и внутренняя (раскрытие режиссерской концепции картины). В зависимости и от композиции конкретного фильма, и от его тематики методика соединения эпизодов может несколько видоизменяться. Но не принципиально, потому что Ханеке предпочитает снимать, а затем монтировать большие по длительности планы. Поэтому, не характеризуя своеобразие монтажа в конкретных картинах, отметим лишь самые важные — и оригинальные — особенности в соединении разрозненных эпизодов, присущие творческому методу Ханеке, которые обеспечивают связность повествования.
<…>
6) Портретный характер крупных планов лица как важнейших при создании в фильме обобщающего «образа человека», нашего современника. Очевидно, что Ханеке с Юргесом не любят сосредотачиваться на вещах и пейзажах, предпочитая снимать людей. Наиболее выразительными и смыслово насыщенными оказываются их крупные планы. В подавляющем своем большинстве главные герои находятся в центре симметричной композиции кадра. Экранный образ человека, следовательно, подается автором как «центр» — кадра, фильма, шире — «центр мира», зафиксированного в киноизображении.
Съемка статичной камерой, растянутые по времени планы, подчеркнутое отсутствие мимики на лице, — все это указывает на влияние живописной традиции, от которой Ханеке, скорее всего, воспринял аналитизм как главное свойство художественного изображения. <…>
7. Жанр фильма и образ человека: маргинальность как идентификация «Иных»
Что же делать, когда общество стало неспособным на предупреждение болезненных проявлений девиантности у индивидуумов, которые тем не менее в него входят?
В этом вопросе сама идиллическая для буржуазного общества эпоха модерна предоставила Дюркгейму право высказать такое понимание проблемы, которое в наше политкорректное время невозможно. Свобода самоактуализации одного человека может быть осуществлена только за счет свободы другого человека, если у него нет обязательств (как, например, у родителей перед детьми) либо желания (как, например, в отношениях тех, кто любит друг друга) способствовать свободе другого. Без этого насилие становится практически неотвратимым.
На фоне психологических знаний о человеке, которые были получены позже, мы видим, насколько взгляды Дюркгейма на перспективы мирного сосуществования в обществе носят пессимистический характер. Из них следует, образно говоря, что только Робинзон Крузо, оказавшийся на необитаемом острове, обладает неограниченным — никем и ничем — правом на самоактуализацию. Следовательно, функцию организации безопасного сосуществования должен принять на себя либо сам человек (это возможно при ограничениях на волю личности, накладываемых христианством), либо государство с его институтами. Во втором случае именно они должны заботиться о тех, кто склонен к девиантным проявлениям. При неосознаваемых противозаконных попытках самоактуализации индивидуума будут лечить, потому что они относятся к сфере психических патологий; при осознаваемых — наказывать, потому что подобные попытки носят криминальный характер, и это компетенция уголовного кодекса. Но в обоих случаях безопасность общества достигается благодаря изоляции тех, кто стремится к самоактуализации за счет свободы других людей.
Изоляция — это не только психиатрические клиники и тюрьмы. Намного серьезнее для личности изоляция иного свойства — социального. Во времена Дюркгейма было принято изолировать персон с девиантными наклонностями в маргинальный слой общества. В итоге противозаконные методы и попытки самоактуализации должны были осуществляться в тайне. В противном случае персонам с девиантными наклонностями либо сочувствовали (в случае психического заболевания), либо осуждали (если они творили насилие). Но, так или иначе, в традиционном буржуазном обществе быть маргиналом (типа маркиза де Сада, Ницше или позднейшего Жоржа Батая, на девиантный опыт которых сегодня едва ли не молятся) — считалось либо большим горем для человека, либо его большим позором. Относились подобным образом к индивидуумам с девиантными наклонностями потому, что, благодаря изоляции их в маргинальные группы, сохранялись спокойствие, благополучие, человеческое достоинство, в конце концов, свобода и жизнь здорового добропорядочного большинства.
Концепция Дюркгейма методологически соответствует такому социальному опыту, когда государство и культура координировали свои усилия для самосохранения и продуктивного воспроизводства.
Если в подобном ракурсе взглянуть на персонажей фильмов Ханеке, девиантность которых не вызывает сомнений, то обнаружится поразительное: никто из них не является маргиналом! Наоборот, все они изначально — именно добропорядочные обыватели[36], полноправные граждане счастливой европейской страны. И все принадлежат к среднему классу. А это, как говорится, «соль» буржуазного общества.
Эрика, к примеру, несмотря на то, что она — профессор консерватории, принадлежит к low middle class (у нее нет собственной квартиры, автомобиля, поэтому она должна так много работать сверх преподавательской ставки). Вальтер же — представитель намного более обеспеченной прослойки high middle class: у него, молодого парня, есть автомобиль; он не опасается за свое будущее, бросая ради общения с Эрикой обучение в престижном технологическом институте; он в течение долгих лет частным образом брал уроки музыки, что на Западе стоит очень дорого; его семейный клан организует домашние концерты с фуршетом и т.д.
Потому можно говорить о том, что конфронтация Ханеке с визуальной культурой современности является поверхностным и сугубо формальным уровнем творчества режиссера, ибо эпицентр всех его картин на современную тему составляет одна идея. Это — эрозия противозаконной самоактуализации, разъедающая количественно доминирующий социальный слой в странах Запада, в котором традиционно формировались ценностные основания личности и гражданского сосуществования в целом.
Как подобное могло произойти в буржуазном обществе, кажущемся со стороны таким стабильным? И целесообразно ли задаваться подобными, политологическими, по существу, вопросами при постановке проблем художественных, связанных с особенностями творческого метода режиссера?
Резон, на наш взгляд, имеется, потому что творческий метод художника в киноискусстве, так или иначе, формирует принципы восприятия фильмов аудиторией. О сугубо психологических аспектах этих принципов нами уже неоднократно говорилось. Но есть еще один фактор, обеспечивающий коммуникативные стороны фильма. Он предельно значим именно для режиссеров авторского кино. Традиционно сценарий, в особенности тот, который пишет сам режиссер, внятно проявляет ценностный аспект посредством конфликта, расстановки его участников с маркировкой их как носителей антагонистических тенденций, организации драматического действия в целом. Наиболее отчетливо тип конфликта и противостояние различных ценностных ориентаций, скрывающееся за ним, в кинематографе проявляют устойчивые жанровые структуры.
<…>
Концепция третья — и она очень простая — это сочинение одного из столпов постмодернистской мысли Мишеля Фуко «История безумия». На бесчисленном количестве исторических примеров он показывает, как в эпоху Нового времени формировалась практика изоляции людей с отклонениями от нормы. Фуко безоговорочно подобную практику осуждает, считая ее тоталитарно-репрессивными действиями буржуазного большинства по отношению к тем, кто проявляет девиантные наклонности. А те, на самом деле, вовсе не душевнобольные. Они просто Иные (иначе, Другие). По-иному думают и чувствуют, у них иные представления о свободе и гражданском сосуществовании, иное они ценят в человеке и обществе, у них иные взгляды на ценности и достоинства культуры и цивилизации вообще.
В итоге поведение Иных, отклоняющееся от нормы, — это вовсе не болезнь или преступление. Все то, за что подобных индивидуумов традиционно изолировали как опасных, происходит в полном соответствии с их Инаковостью. Вывод — лозунг, в котором тяжело не заметить идеологического пафоса: если мы, люди западного мира, живем в «продвинутом» либеральном обществе, то мы должным быть толерантными и политкорректными к проявлениям спонтанности и экспрессивности Иных. Их не нужно изолировать, и пускай они живут среди нас.
Ясно, что минимальные констатации теоретического свойства о природе и основных функциях киножанров нам понадобились уже при первых попытках ответить на вопросы, связанные с жанровой атрибуцией фильмов Ханеке. Эти вопросы имеют принципиальное значение, коль скоро мы уже знаем о такой важнейшей особенности творческого метода режиссера, как работа со стереотипами восприятия киноповествования. Использование жанровых структур в том или ином их состоянии может либо помочь художнику в решении такой задачи, либо, напротив, усложнить ее.
Очевидно, что австрийский художник не очень озабочен тем, как будут восприниматься его картины зрителем. Практически во всех фильмах жанр трудноопределим из-за того, что, на первый взгляд, в каждом произведении наличествует жанровая двойственность. Это связано с расслоением действия в них на событийное «внешнее» и «внутреннее», связанное с психологической мотивацией поступков героев. Если по «внешнему» действию еще можно пытаться определить жанр каждого из фильмов Ханеке, то «внутреннее» действие далеко не очевидно не то что для зрителей, но и для специалистов.
<…>
Поскольку режиссер сам пишет сценарии к своим фильмам, то логично предположить, что непроявленная жанровая ориентация его картин связана с их режиссерскими концепциями. Нелишне помнить и о том, что жанр в литературе — категория, исторически подвижная. Об этом проницательно писал С. Аверинцев, указывая на то, что еще во второй половине ХVIII в. становление романа начало разрушать «традиционную систему жанров и, что еще важнее, самое концепцию жанра как центральной и стабильной теоретико-литературной категории»[39]. Несмотря на «молодость» искусства кино и присутствия литературного компонента в синтетическом единстве фильма в редуцированном виде сценария, — нельзя не заметить, что еще в авторском кино 60-х гг. прошлого века начались процессы, которые можно обозначить если не «отказом» от нормативных жанровых структур, то, во всяком случае, их «несоблюдением» или «трансформацией».
С другой стороны, заметно также и то, что режиссеры, создающие фильмы, которые пользуются успехом у массового зрителя, всегда стремятся соблюдать жанровые признаки. И хотя современное кино расширило — даже в сравнении со словесностью — номенклатуру жанров, в коммерчески успешном кинематографе каждое новое жанровое образование стремится к устойчивости и своей повторяемости в практике многих режиссеров: например, фэнтэзи, фильм ужасов, молодежная комедия, боевик, фантастика и др. Получается, что в этой области кинематографа по-прежнему актуальны «старые» предпосылки жанрообразования. А именно: «тип дедуктивного, силлогистического, “схоластического” мышления по образу формально-логической, геометрической или юридической парадигматики, за которым стоит гносеология, принципиально и последовательно полагающая познаваемым не частное, но общее»[40].
Творческий метод же Ханеке принципиально нацелен на создание экранных образов именно «частного». Это может быть раскрытие внутреннего мира и судьбы конкретного человека в разнообразии мотивов его поведения (главные герои практически во всех фильмах). Это может быть эпизод в истории семьи («Седьмой континент», «Видео Бенни», «Время волков»), узкого круга профессионалов («Код неизвестен», «Пианистка»), малой — формальной либо неформальной — социальной группы («71 фрагмент…», «Код неизвестен»). Но, так или иначе, это «частное» всегда «меньше» и локальнее в сравнении с такими «глобальными» феноменами, как общество, этнос, культура, цивилизация. Не «общее» проекциями своих закономерностей на киноповествование задает «образ человека» в творчестве австрийского режиссера (как это нормативно происходит в традиционных жанрах), а наоборот. Говоря схематично: какой человек, таковы и социум, культура, и цивилизация.
Из этого следует несколько предварительных констатаций, осмысление которых требует самостоятельных исследований: <…>.
Так с иной стороны находит подтверждение и объяснение эмоциональная холодноватость картин Ханеке и несоответствие показываемой на экране «истории» ожиданиям зрителей, которые закономерно не желают отождествлять себя ни с кем из персонажей фильмов режиссера. Все это — приметы если не распада традиционных жанров в творчестве Ханеке, то, во всяком случае, резкого ослабления их в качестве «посредника» между режиссерским замыслом и теми, кто сидит в зрительном зале. Получается, что при сосредоточенности художника на «образе человека», нашего современника, для режиссера крайне важным является стремление понять, что же происходит сегодня в западном мире — в его общественном устройстве, в его культуре.
<…>
Вопрос о «границе свободы» и насилии Мишель Фуко, разумеется, не затрагивает, потому что его идеи целенаправленно стоят на страже интересов аномальных и маргинализированных «меньшинств». В последней четверти ХХ в. их представители, стремясь к признанию и самоактуализации, начали агрессивно и отчаянно сопротивляться их изоляции в маргинальных слоях общества, где они до этого находились сообразно традиционным нормам буржуазного общежития. Следует отметить, что Фуко в этом труде не создал оригинальных воззрений, потому что в своих призывах к новому — толерантному — отношению к индивидуумам с девиантными наклонностями с их последующей социализацией он даже опоздал.
Дело в том, что на уровне доктринального «предложения», скорее, юридического, нежели научно-гуманитарного характера, все это было изложено в четвертой концепции — «Декларации прав человека», которая появилась в 1948 г. Только сегодня мы в состоянии осознать, какая взрывная сила присуща этому документу относительно ценностных оснований в традиционном буржуазном обществе эпохи модерна. Для этого достаточно внимательно и без идеологической предвзятости прочитать первый раздел Декларации. Там черным по белому написано, КТО со времени выхода этого документа в свет, и КАКИЕ имеет права, и есть ли вообще какая-либо граница в осуществлении тех самых «либеральных свобод». Подчеркну, в этом тексте нет ни единого слова о практике ненасильственного сосуществования — то есть об инструментальных и конкретных формах, методах, позволяющих ограничивать твою свободу по отношению к свободе моей.
Так становится понятным, почему авторское кино Ханеке так всех пугает.
Зрителей — ложностью новой либеральной идеологии, подлинное содержание которой они, скорее всего, интуитивно ощущают как исток, причину тотального отсутствия безопасности, возникшего «вдруг» в современном мире; как уничтожение уверенности в завтрашнем дне; как осквернение норм, соблюдение которых наделяло человека буржуазного общества чувством собственного достоинства; как хрупкость самой жизни, наконец. Осмыслению именно этих болезненных процессов, протекающих в глобалистском Западе, посвящены режиссерские замыслы всех фильмов Ханеке на современную тему.
Киносообщество же и критиков (последних — в зависимости от разделяемой идеологии: традиционной — эпохи модерна — или новой глобалистской, которой служат деятели арт-хауза) ужасает необходимость откровенности: то самое «о чем ставит свои фильмы австрийский художник?» нужно назвать своими словами. А дальше, естественно, встанет, даже при рыночных отношениях, проблема выбора: с кем ты, деятель киноискусства?
Но это — тема иного разговора.
Итак, уже зная, что потерявшие человеческий облик персонажи фильмов Ханеке — это Иные, которые живут среди нас, мы можем более предметно вести разговор о картине «Пианистка», сосредоточившись исключительно на ней.
По спонтанным проявлениям экспрессивного поведения Эрика, безусловно, тоже Иная. Но когда мы осознаем, на каких уровнях художественного обобщения работает австрийский художник, — было бы странным, если бы он посвятил свой фильм сексуальным фанабериям старой девы. Постоянное акцентирование Ханеке ее «свихнутости» на музыке раннего романтизма — это чрезвычайно удачный сценарный ход, который предоставил режиссеру возможность размышлять над генезисом Инаковости.
Следует помнить, что девиантные одиночки типа маркиза де Сада в истории известны давно. Но сознательное (на уровне творчески-эстетического, да и вообще культурального манифеста) противопоставление «филистимлян и давидсбюндлеров» как неизбывного конфликта буржуазных обывателей с вдохновенными бунтарями-романтиками, по-иному ощущающими жизнь и мир, — это продукт воспаленного сознания Роберта Шумана. И Новалисово «Не все, кто рядом с нами, люди» упоминалось отнюдь не для красного словца. Деятели искусства в эпоху раннего романтизма буквально звенели ощущением своей Инаковости, которая возносила их над убогой, приземленной «прозой жизни», столь милой сердцу презираемых ими добропорядочных буржуа. Правда, меланхолический толстяк Франц Шуберт был другим по общественному темпераменту, нежели Шуман — его немецкий коллега по мироощущению. Но и он оставил немало рефлексивных и, главное, художественных — музыкальных — свидетельств отвращения к миру «филистимлян» с последующим отказом жить в нем.
Музыку этого композитора главная героиня фильма «Пианистка» ценит превыше всего.
8. Вместо выводов: Франц Шуберт и насилие идеальным
Как Эрика, в общем-то, социально благополучная современная женщина, могла — по-другому не скажешь — «заразиться» болезнью Инаковости? Фильм Ханеке «Пианистка» подсказывает зрителю, что это могло произойти по двум причинам.
Первая — это метода «делания» из обыкновенного ребенка профессионального музыканта-исполнителя. Ханеке — действительно выдающийся кинодраматург, потому что в одном фильме ему удалось показать и «драму воспитания», и, собственно, психологическую драму взрослого человека. Среди студентов класса Эрики есть девушка Анна, которая учится, наверное, на втором или третьем курсе. Анна, очевидно, талантлива и, так же, как и ее педагог, склонна к исполнению сочинений Шуберта. Нельзя не ужаснуться тому, насколько психологически уже искалечена эта молодая девушка, почти ребенок, все проявления которой отличаются инфантильностью.
<…>
Фильм «Пианистка» демонстрирует, насколько в деталях и тщательнейшим образом Ханеке изучил специфику профессионального музыкального образования. По его сценарию мы видим, что талантливая студентка Анна — это та же Эрика, только двадцатью годами раньше.
Это у Эрики мама была когда-то такой же молодой и элегантной дамой, которая всю себя отдавала ежесекундной заботе о дочери. Но не ради Любви (по Маслоу), а для того, чтобы воспитать из нее талантливого музыканта-исполнителя. У мам «пианисток» чаще всего собственной внутренней жизни не бывает. Поэтому закономерно, что с годами они превращаются в параноидально-заботливых мегер, впадающих иногда в немотивированные приступы ярости, подобно родительнице Эрики в блестящем исполнении Анни Жирардо. Пожилая теперь женщина компенсирует алкоголем отсутствие смысла в собственном существовании и маниакально контролирует каждый шаг своей дочери — уже тоже далеко не юной.
Это Эрика когда-то, подобно Анне сейчас, была маленьким затравленным зверьком с ужасом в глазах перед настоящей жизнью, ибо способна — потому что обучена и обладает необходимым для этого талантом — только на то, чтобы, благодаря музыке, «выпадать» в манящие бездны идеального.
Это у Эрики когда-то были поносы от нервного перевозбуждения и эмоциональных перегрузок перед ответственными выступлениями. Но, невзирая на это, — любой пианист неистово стремится на концертную сцену, чтобы, играя на рояле, отдать слушателям то, что болит, жжет пламенем, бурлит в подсознании во время исполнения! В разговоре с профессором мама Анны, умоляя педагога по специальности разрешить дочери принять участие в концерте, произнесет показательные слова: «Анна же столько работает! У нее нет другой жизни, кроме музыки!».
И не будет дальше. Но от этого бурно начнут формироваться психические патологии, мотивированные неудовлетворенными базовыми потребностями. А это — прямой путь к обретению Инаковости. Как показывает Ханеке на примере главной героини фильма «Пианистка», особенно опасной является неудовлетворенность инстинктоидного полового влечения. Естественно, когда оно вырывается наружу, то его проявления — девиантные, аморальные, потому что Эрика обречена их удовлетворять вне норм, принятых в обществе. Вместо того, чтобы жить с супругом либо с любовником, она вынуждена самоудовлетворяться; перманентное половое возбуждение, требующее разрядки, побуждает скромную женщину ходить в секс-шоп и смотреть порно-фильмы. Даже — хуже, потому что непристойных изображений ей мало. Эрике нужна вся гамма ощущений, которую дает полноценная сексуальная жизнь: запахи (эпизод с салфеткой), прикосновения, которые из-за своей способности усиливать эротическое возбуждение побуждают ее практически к насилию Вальтера (эпизод в женском туалете). От перевозбуждения после первого разговора на интимные темы с Вальтером без необходимой разрядки (эпизод в комнате Эрики) она в бешенстве набрасывается на мать, с которой по-детски спит в одной постели. Мы видим, что неудовлетворенные базовые потребности угрожают другим людям: «пианистка» становится опасной. Но не только для окружения, но и для себя тоже[43].
В результате сценарий и режиссура Ханеке как будто «экранизируют», с одной стороны, особенности обучения и воспитания музыканта-исполнителя, а с другой — определенные теоретические положения Маслоу: экспрессивные проявления Эрики хоть и кажутся немотивированными, но они всегда детерминированы. Но поскольку в основном массиве произведений игрового кино зрители привыкли именно к мотивированным поступкам — мотивированным хотя бы патологией! — большинство попросту не понимает, почему все это безобразие происходит. До конца картины трагически не будет понимать этого и Вальтер. А именно: это Инаковость Эрики не дает ей возможности полноценного существования. С детства ее принесли в жертву музыке и не научили жить.
Теперь о второй, и, на наш взгляд, главной причине «болезни Инаковости», которой поражена главная героиня фильма «Пианистка». Эта причина коренится — используя терминологию Ю. Лотмана — в «программе жизненного поведения»[44], заложенной в творчестве ее любимого композитора Франца Шуберта. Романтическое искусство — это, в первую очередь, самовыражение автора. Его душевная жизнь, а иногда и факты биографии становятся основными импульсами к созданию произведений. Шуман подчеркивал психологическую связь автора со своим произведением, понимая его лирического героя как alter ego романтического художника: «Нет иной музыки, кроме шубертовской, которая была бы так удивительно психологична в развитии и связи идей <…>. Чем для других является дневник, в который они заносят свои мимолетные переживания <…>, тем для Шуберта, собственно говоря, был лист нотной бумаги, которому он поверял все свои настроения»[45].
В разделе 2 настоящего исследования неоднократно говорилось о том, что в акте исполнения музыки происходит своеобразное отождествление внутреннего мира музыканта с образом исполняемого произведения. Прямым свидетельством того, что Ханеке знал об этой особенности исполнительской деятельности, являются кадры-лейтмотивы — руки играющих пианистов на клавиатуре, снятые крупным планом. Такие кадры направлены на раскрытие психологии музыканта, поскольку на экране невозможно показать, как он эмоционально откликается на образ исполняемого произведения. Следовательно, руки пианистов оказываются неразрывно связанными с эмоциями — и музыкантов, живущих сегодня, и авторов, написавших фортепианный опус.
<…>
Переход персонажей фильма в другую реальность — вот что на самом деле показывает режиссер крупными планами рук, играющих на рояле. У одних — у Вальтера и у второго студента из класса Эрики — это получается плохо с точки зрения требовательного профессора. А вот трепетная девушка Анна — она сможет, подобно тому, как когда-то научилась блужданиям по мирам идеального ее учительница, перенимая «программу жизненного поведения», воплощенную в творениях любимого композитора-романтика.
И как это ни схематично и прямолинейно, приходится допустить, что при исполнительской специализации музыканта на сочинениях композиторов-романтиков (тем более на творчестве одного автора), возникает достаточно полное, глубокое и даже интимное «вживание» современного человека-музыканта в психологию человека-автора, который жил и творил почти двести лет тому назад. Потому приведем этапные моменты жизненного и творческого пути австрийского композитора, чтобы понять, с какими особенностями его внутреннего мира Эрика могла испытывать душевное сродство, и что так патологически влияло на ее психику.
<…>
С точки зрения теории мотивации, разработанной Маслоу, внутренний мир великого композитора представлял собой патологически-болезненный узел нереализованных потребностей, не говоря уже о здоровье: в жизни Шуберта, очевидно, были не удовлетворены инстинктоидная половая потребность, все базовые — потребности в безопасности, Любви и принадлежности, в признании. Но при этом творческая деятельность позволяла реализовать высшую для личности потребность — эстетическую. Между разными планами существования Шуберта-человека возник травматический разрыв: между неудовлетворенностью элементарных биологических потребностей, абсолютно неполноценной жизнью в обществе из-за разорванных связей с близкими людьми и отсутствием широкого признания созданных произведений в профессиональных кругах, и ощущением максимальной личностной самореализации в творчестве и благодаря ему. Все это, естественно, находило свое воплощение в музыке, поскольку психологическая связь автора со своим произведением и его «лирическим героем» в романтическом искусстве сильна, как ни в какие иные эпохи.
Но не будем забывать, что художественный образ, в особенности в музыке — это феномен идеальный. И потому музыканты, исполняя великие творения Шуберта, в особенности вокальный цикл «Зимний путь» (в фильме «Пианистка» романс «Деревня» разучивает Анна с вокалистом по классу камерного ансамбля), для достижения выразительности должны проникаться теми эмоциями, которые вложил в музыку композитор, независимо от того, близки ли они им или чужды. В том же «Зимнем пути», к примеру, гениально воплощены предчувствия скорой смерти[52]. Не проживая реальных событий, происходивших в жизни композиторов, исполнитель переживает тот круг эмоций, который авторы вложили в свою музыку.
В случае очевидных исполнительских пристрастий (как свойственно Эрике) жизнь современного человека-музыканта начинает искажаться, ломаться и, наконец, подчиняться той «программе жизненного поведения», которая обусловливала существование автора произведения. Чтó в сравнении с идеальным воплощением любовного чувства в музыке могут значить объятия реального мужчины? Только животную материальность секса. Вызывающая восхищение режиссерская идея «Пианистки» посвящена трагедии «любовного треугольника» — борьбы двух мужчин за одну женщину. Трагедия неизбежна потому, что у претендентов различные, если угодно, «весовые категории». Вальтер, хоть и симпатичный парень, но он — обычный, нормальный, ничем особо не выдающийся молодой мужчина, который может предложить Эрике только свою любовь, состоящую из чувств да живых плоти и крови. Его же соперник — хоть и мертвый, но он — гений. И он давно уже владеет сознанием этой женщины, навевая своей музыкой химерические иллюзии об идеальной любви прекрасных душой Иных, возвышающей их над физиологической «прозой» обычных отношений между мужчиной и женщиной. Фильм Ханеке «Пианистка» с пугающей убедительностью показывает, какими патологиями для личности оборачивается предпочтение идеального в ущерб реальному. Взаимоотношения между обычными людьми и Иными возможны только посредством насилия вторых.
Почему же Инаковость помимо психологических причин и социальных является его провокатором?
Шуберт, хотя и был великим композитором, но способностью к рефлексии не обладал: его мысли, как и его музыка, глубоки, эмоционально подлинны, но лишены рациональной искушенности. Крупные же мыслители эпохи романтизма (Ф. Шлегель, А. Шлегель, В. Г. Вакенродер, Л. Тик, Ф. В. Шеллинг, Новалис и др.) полагали именно такое — глубоко кризисное — состояние внутреннего мира, чреватое серьезными психическими патологиями, некоей «нормой», даже типологическим свойством романтического художника вообще. Это подтверждают слова Франсуа де Шатобриана: «Мы познаем разочарование, еще не изведав наслаждений; мы еще полны желаний, но уже лишены иллюзий. Воображение богато, сильно, чудесно; существование сухо и безотрадно. Мы живем с полным сердцем в пустом мире и, ничем не насытившись, уже всем пресыщены»[53]. Более того, подобная кризисность сознания культивировалась, поскольку позволяла считать его носителей «избранными» для высокой духовной миссии, в то время как основная масса общества была обречена прозябать в сфере филистерских материальных интересов и забот. Романтический художник тем уже отличен от непоэтической толпы, что он отказывается жить по ее обывательским законам: он — Иной. Биография Шуберта в деталях подтверждает этот принцип Инаковости, возведенный на уровень «программы жизненного поведения».
Но реальное существование жестоко расправляется с теми, кто, игнорируя его законы, в том числе и законы общественной жизни, стремится жить по правилам иронический игры, театра, мифотворчества, стремясь возвыситься над остальными людьми. Все крупные деятели романтизма одной из главнейших задач полагали утверждение принципа «романтизации жизни», которое в конечном итоге и вело к роковой обреченности романтического героя в его противостоянии затхлой повседневности. Показательно в этом плане высказывание Новалиса: «Смерть — это романтизированный принцип нашей жизни. Смерть — это жизнь после смерти. Жизнь усиливается посредством смерти»[54]. В результате итог «романтического мифа» неутешителен: слишком большие жертвы предполагаются логикой его внедрения в жизнь. А логика такова:
— человеку нужны определенные деформации в психологической конституции и обстоятельствах жизни, чтобы выделиться из нормативного большинства;
— тем самым он маргинализируется и превращается в Иного;
— начинается активная и агрессивная конфронтация Иного (Иных) с нормативным большинством;
— тем не менее эти действия могут преодолеть медицинские и юридические санкции, обычно применяемые обществом по отношению к Иным, и иметь успех, если в культуре они легитимируются доктриной, в которой используются ценностно значимые для нормативного большинства аргументы (эстетизации, трансцендирования, новаторства, идеализации, свободы, равенства, др.);
— поскольку именно культура всегда становится территорией, на которой, в первую очередь, Иные обретают легитимность, то формы манифестации Инаковости в той или иной степени должны быть связаны с художественной (религиозной, общественно-правовой) деятельностью;
— но на этапе борьбы уже за социальную легитимность Иные неизбежно должны столкнуться с нормативным большинством, которое справедливо выдвигает требования подчинения единым для всех стандартам сосуществования в обществе;
— поскольку отрицание подобных стандартов заложено в причинах возникновения Инаковости, то сами процессы идентификации Иных в обществе неизбежно оборачиваются насилием.
Описанная нами логика с той или иной степенью подробности показывается в каждом фильме австрийского режиссера. Модель авторского кино, разрабатываемая Ханеке, со всей очевидностью посвящена краху утопических представлений о современном человеке, шире — западной цивилизации эпохи глобализма. В трезвом и аналитическом взгляде на них Ханеке нет ни грана романтических, по сути, иллюзий, возникновению которых так способствовало время «бури и натиска» идеологии постмодерна (под брендом «нового гуманитарного знания») на традиционные ценности буржуазного общества. И потому с неутешительной картиной процессов, протекающих в странах Европы сегодня и запечатленной в фильмах художника с их однозначно «отрицательной эмоциональностью», начинает резонировать мысль Х. Менке-Эггерса, высказанная им в труде «Суверенитет искусства». Немецкий философ считает, что негативность современного искусства удерживает интенции к трансцендированию, почти исчезнувшие в современной культуре. Тривиальное должно уметь разрушаться при столкновении с миром просто чуждого, зловещего, неприрученного, которое сопротивляется возможности быть ассимилированным с уже понятым и которое, несмотря на все, не располагает шансом завоевать себе какое-либо привилегированное положение[55].
В этом суждении еще просвечивает некий оптимизм как надежда остановить стихию насилия, царящую ныне в обществе без государств и в глобальном мире без границ суверенности. Кинематограф Ханеке куда более пессимистичен. В фильме «Время волков» насилие почти однозначно связывается режиссером со способностью людей к выживанию. Правда, для художника «выживание» и «спасение» — не одно и то же…
1. Большой приз жюри за лучший фильм; за главную женскую роль (Изабель Юппер); за главную мужскую роль (Бенуа Мажимель).
2. Вопрос трактовки режиссером литературной основы в настоящем исследовании не обсуждается. Укажем только на одно: при сохранении общей фабулы Ханеке, в отличие от писательницы, принципиально иначе мотивирует поведение главных персонажей, а на уровне общей идеи фильма объясняет его иными факторами.
3. Панегирический восторг вызывали, во-первых, фабула (респектабельная старая дева, профессор Венской консерватории заводит скандально нецеломудренные отношения со своим студентом); во-вторых, психологические и сексуальные отклонения главной героини; в-третьих, ужасающие эпизоды обоюдного насилия главных героев друг над другом, не только психологического, но, в конце концов, и физического; в-четвертых — и это самое главное для арт-хаузных критиков — эпизод разрезания профессоршей-пианисткой Эрикой собственных гениталий лезвием для безопасного бритья.
4. Этот международный резонанс докатился и до России. Характерно, на лицензионной видеокассете позднейшего фильма Ханеке «Час волков» (выпущена в 2004 г.) уже стоит красноречивый гриф «Арт-хауз коллекция», хотя у этой картины нет каких бы то ни было признаков, позволяющих отнести ее к этому направлению в современном кинопроцессе.
5. Здесь и далее курсив всегда только наш. — Л.Б.
6. См. об этом: I n s d o r f A. The Cinema of Krzysztof Kieslowski. New York, 1999, p.147–150.
7. О подобных выводах, осмысляющих психологически неоднозначные мотивы поведения персонажей фильма, см.: П о к р о в с к и й Н. Одиночество в зеркале философской культуры. — В кн.: Перепутья и тупики буржуазной культуры. М., 1996, с. 136–173; Б о ж о в и ч В. Разобщенные души. — «Искусство кино», 1982, № 7, с. 166–167; М а ц а й т и с С. В кругу трудных вопросов. — «Кино», 1982, № 9, с. 14–15.
8. Особенно впечатляет рецензия Зары Абдуллаевой на фильм «Пианистка». Нескрываемо презирая «культурологические благоглупости», критик тем не менее в статье перепробовала, наверное, с десятка три интерпретативных кодов: от «венской наследственности» до «феминистской озабоченности»; от «меланжа присутствия-отсутствия» до «романтического эксцентризма»; от «тоталитарного прессинга культурных ценностей» до «игры со своим телом как с чужим»; от «ритуального бидермайеровского музицирования» до «восстания элиты против дегуманизированных искусством масс» и т.д. Характер текста и слог этой рецензии таковы, что на первый план в осмыслении картины Ханеке вышла в результате «мелодрама пианистки, которая разыгрывается на фоне педагогической поэмы отношений с аристократом Вальтером, которому не надо добиваться свободы, с богачом, пианистом, инженером и спортсменом». Вот, оказывается, в чем корень! См.: А б д у л л а е в а З. Зимний путь. — «Искусство кино», 2001, № 9, с. 43. Олег Аронсон почувствовал, что фильм как-то связан с психическими патологиями, более того, уже высказал соображение, с которого, на наш взгляд, начинается реальный анализ картины: «Безумие в том виде, в каком оно показано в фильме Ханеке, не может собрать свой смысл именно в качестве истории, несмотря на все хорошо известные возможности психиатрических и психоаналитических интерпретаций». Но дальше это положение критик не развил, предпочтя более твердую и знакомую для себя почву той же психоаналитической интерпретации. См.: А р о н с о н О. Санитары любви. — «Искусство кино», 2001, № 10, с. 33.
9. А р о н с о н О. Дистанции и смещения. — «Киноведческие записки», 2001, № 54; К и с е л е в А. Атака на сексуальный фронтир. — «Фильм», 2001, № 51, ноябрь; К и с е л е в А. СЕКС в картинках и впечатлениях. — «Фильм», 2002, № 65, март; К у л и ш А. Опасные игры, забавные игры. — «Premier», 2001, № 38, июль–август; П а с у е в А. Непристойное кино. — «ПитерBook-Плюс», 2002, № 3 (74), март.
10. В консерваториях всего мира, в отличие от киновузов, по-иному организован учебный процесс. Специальностью — то есть исполнительской специализацией — студенты овладевают на индивидуальных занятиях у преподавателя, как в музыкальных школах. В киновузах курс, набранный педагогом, — авторитетным деятелем киноискусства — называется «мастерской». В консерваториях же у одного преподавателя учатся студенты разных курсов, и они называются «классом» такого-то педагога. В классе, так же, как и в мастерской, студенты осознают себя небольшим сообществом (в социологической терминологии — «малой формальной группой»), которое объединяет сугубо музыкантский исполнительский талант и авторитет их педагога. Во всех сложных учебных, да и жизненных ситуациях вообще, студенты класса обычно поддерживают друг друга. Кроме того, еще на вступительных экзаменах в консерваторию абитуриенты оцениваются не только с точки зрения их профессиональной подготовленности, но и по определенным творческим склонностям к исполнению произведений, написанных композиторами той или иной эстетики. Подобная склонность, которая при этом совпадает с творческими приоритетами педагога, является основанием для распределения студентов по классам преподавателей-музыкантов.
11. Из обсуждения фильма «Пианистка» после общественного его просмотра на секторе кино и телевидения РИИИ (2001 г.). В аудитории преобладали музыканты. Тезисы стихийно возникшего обсуждения фильма приводятся далее.
12. «Когда культура фиксирует индивидуальное исполнение-восприятие как типологическую характеристику текста (фортепианная музыка ХIХ века), на первый план выходит экспрессивная функция языка (модель общения “личных Я”), и вне интерпретации, вне “образа артиста”, с которыми Шопен “общается через нефиксируемые поля своих Вальсов, Мазурок, Этюдов, большинство из них могут остаться вальсами, мазурками, этюдами”». См.: К л и м о в и ц к и й А., Н и к и т е н к о О. Жанр и коммуникативные аспекты музыки: музыкальная деятельность, музицирование, музыкальный язык. — Музыкальная коммуникация. СПб., 1996, с.50.
13. Отметим, что именно преподавательница перевела отношения со своим студентом в сексуальную плоскость. До эпизода сексуальной агрессии Эрики в туалете консерватории Ханеке трижды показывает, как Вальтер по-юношески «кокетничает» с молодыми девушками (планы у бортика хоккейного поля, переглядываний в зрительном зале на репетиции концерта, очевидной внимательности к Анне, рыдавшей до того в истерике, что заставило их общего педагога взревновать и, как следствие, совершить преступление по отношению к студентке своего класса).
14. «Язык музыки — действительно непревзойденный способ достижения эмоциональной монолитности коллектива и, кроме того, способ, обеспечивающий развитие и закрепление в памяти каждого живых душевных реакций. <…> Но очевидна и самостоятельная мнемоническая роль музыки в культуре — как языка эмоционального опыта, эмоциональной памяти коллектива». См.: К л и м о в и ц к и й А., Н и к и т е н к о О. Указ соч., с. 45–46.
15. «Песня как знак личности, служа средством ее репрезентации, ипостазируется и может, в свою очередь, действовать как самостоятельный персонаж — происходит “присвоение человека музыкой”». См.: Н о в и к Е. Функция музыки в архаической культуре (на примере сибирского шаманизма). — В сб.: Конференция «проблемы генезиса и специфики ранних форм музыкальной культуры», с. 48.
16. «Даже воспроизведение уже созданного текста музыкального произведения на уровне полноценного художественного звучания требует весьма серьезной подготовки и безусловного таланта исполнителя. Возможно и мысленное “прочтение” нотного текста, т.е. непосредственное зрительное восприятие его как “звучащей” музыки. Но и оно требует специфической одаренности (развития внутреннего слуха) и длительной практики, а главное — способности к восприятию музыкального смысла, и потому доступно только узкой группе профессионалов». См.: Б о н ф е л ь д М. Музыка: язык или речь? — В кн.: Музыкальная коммуникация. СПб, 1996, с. 24–25.
17. «Wohin?» («Куда?) — название второго романса из вокального цикла Франца Шуберта на стихи Вильгельма Мюллера «Прекрасная мельничиха». В переводе И. Тюменева один из куплетов романса гласит: «Но нет, то не журчанье,/ То голос неземной,/ То песенка русалок/ Под синею водой».
18. Вот теоретическое объяснение того, что «скрыто» за крупным планом лица Эрики, то есть общения с потаенным внутренним миром юноши, одновременного познавания его во время слушания его исполнения шубертовской музыки. «В акте музицирования “человек вовлекается в “мир отношений” музыки, в котором структурно и семантически закреплены все “эгоцентрические референты” — “Я”, “Мы”, “Они” — исповедальность, мольба, вопрос, призыв, массовый отклик и т.д. Музыка, “язык-общение”, вовлекая человека в общение с «другими Я», закрепленными в языке, во время непосредственного звучания превращает человека в человека общающегося. Субъективное “Я” человека, перемещаясь в многомерное пространство “других Я”, интериоризируется в интонацию, где его личное “Я” осуществляется как “Я-другое”». См.: К л и м о в и ц к и й А., Н и к и т е н к о О. Указ. соч., с. 47.
19. См. об этом: П л а х о в А. Всего 33. Винница, 1999, с. 289–238.
20. Нам представляется, что, разрабатывая средства киновыразительности, необходимые для возникновения характерных принципов их зрительского восприятия, Ханеке учитывает концепцию т.н. инклюзивного различения людьми того, что происходит вокруг с последующей оценкой и пониманием событий. В 90-е гг. эта концепция получила одобрение в политологических дискурсах и сейчас интенсивно внедряется СМИ на уровень массового сознания в противопоставлении с другой конкурирующей концепцией — «эксклюзивного различения». Каждая из них формирует «свою» парадигму нормативного и логичности того, что происходит в глобалистском нынче мироустройстве, о чем пишет немецкий философ Ульрих Бек.
«Эксклюзивные различения следуют логике “или—или”. В их проекте мир выглядит как сосуществование и соподчинение отдельных миров, в которых идентичности и принадлежности исключают друг друга. Каждый неожиданный случай рассматривается как чрезвычайный. Он раздражает, шокирует, ведет к вытеснению или к активности, восстанавливающей порядок.
Инклюзивные различения дают совсем иной образ “порядка”. Нестандартные случаи, не укладывающиеся в привычные категории, здесь не исключение, а правило. Если это оказывается шокирующим, то только потому, что благодаря пестрой картине инклюзивных различений ставится под сомнение “естественность” эксклюзивной модели мира». См.: Б е к У. Что такое глобализация? М., 2001, с. 96–97.
21. Окончательная версия книги вышла в 1970 г., и в таком виде во всем мире обрела статус основополагающей и классической при изучении мотивационных процессов человека.
<…>
29. Х а н е к е М. Насилие не должно быть приятным в употреблении. — «Искусство кино», М., 1999, № 9.
30. О том, насколько не сопоставимыми с идеями Дюркгейма оказываются представления современных теоретиков «глобалистского мира» о свободе человека и о нормах, ценностях общественного сосуществования, свидетельствуют положения Дж. Фридмана. Если руководствоваться в государственной, религиозной, культуральной политике эксклюзивным различением «или—или», то, как пишет Фридман, «этот воображаемый мир может показаться оскорбительным и агрессивным, и ответ на него будет таким же. Когда культуральное пространство унифицируется по схеме “или—или”, — гегемониальной властью или в форме гегемониального мышления и изучения, тогда макароны (снова) будут отождествляться с итальянцами, а из многообразия диалектов возникнет “родной национальный язык”; это означает, что культуральная дифференциация и многообразие будут постепенно сведены к различению между правильным и ложным, между нормой и отклонениями от нормы». См.: F r i d m a n J. Cultural Logics on the Global System. — In: Theory, Culture and Society, 5. Special Issue on Postmodernism, 1988, p. 458. Существо цитируемого суждения сводится к тому, что «норма», «правильность» в этом «новом мире» считаются предосудительными и потому не нужными.
31. См. об этом: G r o s s m a n D. On killing: The psychological cost of learning to kill in war and society. New York; Little Brown, 1996.
32. Х а н е к е М. Указ. соч.
33. Вот типичное для западной психологии объяснение привлекательности для зрителей насилия, показываемого на экране, прежде всего, телевизионном. «Просмотр телевизионного детектива позволяет нам испытать некоторые из эмоций, переживаемых действующими лицами, не подвергая себя какой-либо физической опасности. Тем самым мы можем прийти в состояние возбуждения без риска для себя посредством чужого опыта. <…> Если бы нам пришлось переживать подобные ситуации в реальной жизни, чувство опасности или смущения могло бы перевесить позитивные аспекты, и эти ситуации не показались бы нам такими забавными, какими они выглядят на телеэкране». См.: T a n n e n b a u m P. H. Entertainment as vicarious emotional experience. — In: T a n n e n b a u m P. H. (Ed.) The entertainment function of television. Hillsdale, NJ, 1980, p. 107–131.
34. См. об этом: Б е р е з о в ч у к Л. Психологические основания интерактивности в контексте современных визуальных практик. — В сб.: Методологические проблемы художественной культуры. СПб, РИИИ, 2000; Б е р е з о в ч у к Л. Чому i як ми перетворились на мишкунiв (нотатки про психологiчнi пiдвалини iнтерактивности). — «КINO-КОЛО», Киъв, 2001, № 9.
<…>
39. А в е р и н ц е в С. Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации. — В кн.: Историческая поэтика. М., 1986, с.114.
40. Там же.
<…>
43. Именно этим объясняется попытка сексуального автотравматизма, которая детерминируется стремлением, используя сильную боль, преодолеть ощущения постоянного сексуального возбуждения. Показательно, в стихах многих поэтов ХIХ в. для обозначения подобных ощущений, связанных с половой неудовлетворенностью, неоднократно встречается почти что тривиальная метафора «зуд любви». Ее даже употребляет Маслоу в своем исследовании.
44. О том, как в искусстве романтизма художественные тексты превращаются в область моделей и программ, влияя на реальное существование человека, см.: Л о т м а н Ю. Статьи по типологии культуры. Вып. 2. Тарту. 1973.
45. Ш у м а н Р. Письма. Т.1. М.,1970, c.94.
<…>
52. Вот спектр интерпретаций общего эмоционального строя этого сочинения Шуберта зарубежными музыковедами, которые приводит Ю. Хохлов в своем исследовании, посвященном «Зимнему пути»: «Музыка говорит здесь языком, который исходит <…> словно из другого мира» (П. Штефан); «Отображение далекого от мира», «трансцендентного», «недоступного пониманию», «нечеловеческого» (Ф. Гюнтер); о влиянии предчувствия смерти на образность «Зимнего пути» писали К. Хушке, М.-А. Суше, А. Эйнштейн; В. Дамс, О. Гумпрехт и тот же Хушке писали о воплощении в музыке патологического состояния ее автора. См. об этом: Х о х л о в Ю. «Зимний путь» Франца Шуберта. М., 1967, с. 23.
53. Ш а т о б р и а н Ф. д е. Гений христианства. — В кн.: Эстетика раннего французского романтизма. М., 1983, с. 154.
54. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980, с. 106.
55. См. об этом: M e n k e - E g g e r s Ch. Die Souveränität der Kunst. Frankfurt am Main, 1988.
Информацию о возможности приобретения номера журнала с полной версией этой статьи можно найти здесь. |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.