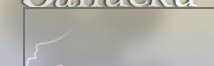|
 |
|
публикатор(ы) Юлия АНОХИНА
Новый взгляд на старые вещи «Солярис» считался наименее скандальным фильмом Тарковского, когда другие его ленты заставляли спорить даже тех, кто их не видел. Поводы к дискуссиям давали невероятная по тем временам кинематографическая форма «Зеркала», драматичные переделки «Сталкера», предсказанная в «Ностальгии» эмиграция, запрещение «Андрея Рублева», необычный разворот героического сюжета «Иванова детства», вызвавший полемический отклик Сартра, кумира интеллигенции 60-х. Что уж говорить о «Жертвоприношении», где видели пророчества к Чернобылю, убийству шведского премьер-министра Улофа Пальме и кончине самого режиссера. И лишь «Солярис» оставался замкнутым в пространстве экрана почти три десятка лет—до тех пор, пока новый взгляд на наследие Тарковского не сформировался благодаря сегодняшней обостренной трактовке религиозных и духовных проблем. Сыграло роль и еще кое-что: сравнение с американским ремейком, обнародование негативного отзыва Станислава Лема о проекте фильма, появление в интернете записи первой советской телеэкранизации романа (1968) и выпуск одной из американских фирм материалов к «Солярису» (бонусом к фильму на DVD), среди которых обнаружился эпизод «Зеркальная комната», известный прежде лишь специалистам (рабочая версия фильма с этим эпизодом, на 2 части длиннее прокатной, хранится в ГФФ). В свое время фильм разрешили к постановке именно затем, чтобы погасить страсти, разожженные не выпущенным на широкий экран «Андреем Рублевым» (премьера в Доме кино все же прошла). После диссидентских процессов и «жаркого лета» 1968 года властям не очень-то хотелось оставлять у себя в тылу обиженного сильного человека, опасного своей несговорчивостью, легче было загрузить его работой, чем потом терпеть урон от оппозиции. Выглядел сюжет с идеологической точки зрения стерильно. Научная фантастика, автор романа—из братской народной Польши… В пользу будущего фильма работала и только что прошедшая по ЦТ телеверсия «Соляриса», ведь тираж книги измерялся тысячами, а аудитория Первой программы—десятками миллионов, и возникший массовый интерес к теме грех было не проэксплуатировать. Подводных камней в проекте не предполагалось. Религиозная составляющая в нем не акцентировалась, никто и представить не мог, что в фильме она выявится без реплик, композицией кадра, отсылающей к картине Рембрандта и теме Блудного сына, а, следовательно, и к Библии. В итоге сейчас фильм живет в двух ипостасях. Первая сохранилась с советских времен: добротная кинофантастика, «наш ответ “Космической одиссее” Стенли Кубрика», на сегодняшний взгляд несколько статичная (впрочем, на этот же взгляд и у Кубрика отчасти избыточна танцевальная вальсовая компонента). Вторая ипостась отягощена проблемами: трактовкой религиозного контекста, конфликтом с Лемом, сравнением с версиями Содерберга и Ниренбурга, отличиями прокатного и рабочего вариантов, вызывающими вопросы о том, как редактировался фильм. Публикуемые стенограммы обсуждений на киностудии показывают, что проект не подвергался драконовской правке, режиссера не заставляли резать материал «по живому» и выкидывать дорогие ему высокохудожественные моменты, по которым должна скорбеть история кино, и поэтому надо осторожнее относиться к популярным сейчас легендам о мученике, все жизнь терпевшему издевательства,—наоборот, суждения выступавших, за некоторыми исключениями, комплиментарны по отношению к режиссеру. Правда, так было лишь внутри студии. При сдаче фильма чудовищно абсурдные замечания Комитета по кино и Отдела культуры ЦК вызвали ощущение катастрофы. Но после просмотра крупными учеными его вдруг приняли без поправок. Таковы особенности нашей скорее политической, нежели кинематографической действительности тех лет. Многочисленные расхождения между вариантами литературного и режиссерского сценария, промежуточной и прокатной версиями картины вели в одном направлении: сюжет фильма уплотнялся, исчезали второстепенные темы и персонажи (Мария, жена Криса), излишние разъяснения и мотивировки уходили внутрь, смысл фильма становился более таинственным и менее очевидным. В финале режиссерского сценария Крис раздваивался: перед предстоящим возвращением на Землю он вместе со Снаутом спускался на планету Солярис и издали наблюдал, как его собственный солярианский фантом встречается с таким же фантомным отцом. Наверное, это ближе к шаблонам жанровой интриги, но, боже мой, как плоско! Тарковский в процессе изменений фильма вырывался, как из сгнившего кокона, из жанровых клише и шел к собственной логике кино—непредсказуемой и внешне не мотивированной, но обоснованной глубинными духовными импульсами. В нынешнем варианте фильма мы не знаем, вернулся ли Крис на Землю или остался на станции, не знаем, сам ли он встречался с отцом, или его фантом, да и с отцом ли своим он встречался, или с всеобщим предвечным Отцом. Устраняя из фильма ответы на эти вопросы, режиссер приходил сам и подводил зрителя к пониманию того, что иногда в неясности гораздо больше художественной ценности. И все это—как позволяет нам увидеть публикуемый в журнале материал,—он делал не в борьбе с теми, кого сегодня принято считать гнусными чинушами, душившими гения, а в борьбе с самим собой и привычными штампами. Кстати, «зеркальная комната» исчезла из фильма не совсем. В прокатной версии, когда Крис просыпается, рядом с его постелью вместо привычного белого интерьера каюты вдруг мелькает кусок зеркального пола и стены, это и есть остаток выпавшего эпизода. Режиссер убрал его, раздосадовав друзей и заметив, как записала О.Суркова: «Вся эта безвкусица стоит две копейки». Эпизод тавтологично объяснял, что речь в фильме идет о снах и отражениях, и являлся не частью сюжета, но, с моей точки зрения, автокомментарием. Кому-то это нравится. Однако Тарковский готовил фильм, да и все направление своего дальнейшего творчества, к восприятию тех, кто видит суть без комментариев. В итоговом монтаже он переводил акценты от расколотого человеческого сознания (в дробящихся зеркальных отражениях) к некоей внешней силе, управляющей человеком и универсумом. Тут вопрос не вкуса или безвкусицы, но философской позиции, которая по мере работы над фильмом все яснее определялась. И вопрос жанра, уходившего от мелодрамы (заметной в рабочей версии, например, в семейном обеде Криса и Хари и ряде диалогов, позже сокращенных) к религиозной притче. Станислав Лем, пережив режиссера и став свидетелем его посмертного признания гением, что должно бы льстить автору литературного первоисточника для одного из гениальных творений, тем не менее так и не примирился с ним, а фильм посмотрел лишь в конце своей жизни и без удовольствия. Твердый характер... Но и оппонент его был не мягче. Многое из того, против чего Лем протестовал, Тарковский убрал из фильма, но не сразу и не ради согласия с Лемом, а самостоятельно придя к тому же на поздних этапах работы над фильмом. Из чего следует, кстати, что Лем в своей критике был не так уж и не прав. Поправки касались сюжета, персонажей и т.д. А вот религиозный подтекст, против которого Лем тоже возражал (не в публикуемом здесь письме на «Мосфильм», а в более поздних отзывах о фильме), Тарковский не убрал и даже усилил. Пошел наперекор автору романа? Едва ли. Выскажу крамолу, да не забросают меня камнями поклонники польского фантаста: искренность Лема в полемике по этому пункту вызывает у меня сомнения. Грандиозный интеллект, один из умнейших людей своего времени, не мог он не понимать, что создал. Не мог не видеть, что концепция Бога заложена в романе. Он пытался ее замаскировать, травестировать идеей бога-ребенка, играющего в игрушки, но это дела не меняет. Творец не может быть ребенком или взрослым, он вне времени, а значит, и возраста. Для одних людей он есть, для других нет, но мне кажется, что Лем относился к первой категории и в глубине души не был тем атеистом, за которого себя выдавал. Думаю, Тарковский открыл миру подлинного Лема. Писатель пафосно возмущался, что режиссер вместо его романа поставил «Преступление и наказание», но признавал, что заложил в роман идею вины, а ведь отсюда к Достоевскому прямой путь. Бравируя, он выставлял себя этаким Сарториусом, хотя был, условно говоря, в той же мере и Крисом, ведь все же именно он, и никто другой, сочинил связанную с Хари фабулу. Что касается телеэкранизации романа, то ее возвращение в киноведческий контекст ставит перед исследователями новые вопросы. Принято считать, что фильм Тарковского и телеспектакль не имели друг к другу отношения. Может, и так. Но это сейчас вы можете видеть сотню разных каналов на своих цветных телевизорах. А тогда было всего четыре черно-белых, и на фоне официальной телевизионной скуки яркие передачи или спектакли, как тогда говорили «постановки», шумно обсуждались всеми и везде. Тарковский мог спектакля не видеть, но не мог не слышать о нем. Как выясняется, заявка на фильм подана через несколько дней после телеэфира. Да, замысел фильма возник раньше, но не исключено, что спектакль подстегнул авторов заявки, возможно, прежде колебавшихся, к более активным действиям. Надежда увидеть когда-нибудь академическое собрание документов по фильмам Тарковского не гаснет. Изданы материалы Т.Винокуровой о создании «Андрея Рублева», В.Фомина о «Зеркале», в книге Лейлы Александер рассказано о работе над «Жертвоприношением», О.Суркова опубликовала свои «Хроники Тарковского», Е.Цымбал готовит книгу о «Сталкере». В этот контекст вписывается и подготовленная Юлией Анохиной публикация архивных документов о «Солярисе».
Дмитрий Салынский
Информацию о возможности приобретения номера журнала с этой публикацией можно получить, обратившись в редакцию: kz@kinozapiski.ru, kinozapiski@yandex.ru
|
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.