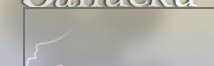|
 |
|
Ирина ПАВЛОВА
О будущем фильме Арановича по сценарию Житинского я узнала в самолете, везущем группу российских кинематографистов на Берлинский кинофестиваль. Семен Аранович с картиной «Год собаки» участвовал в конкурсе. Он вытащил из «закромов» бутылку виски и начал рассказывать идею своей новой картины. Видно, она уже давно жгла его изнутри, распирала, и хотелось делиться ею с каждым, кто готов был слушать,—а я была готова. Идея показалась мне сумасшедшей, и я этого от собеседника скрывать не стала. Обидчивый и самолюбивый, Аранович, паче чаяния, не рассердился, продолжая убеждать меня в том, что история гениальная. Сюжет про молоденькую девочку-диверсантку, заброшенную в партизанский край, в тыл к немцам, специально, чтоб ее поймали и казнили и чтоб гибель ее послужила патриотической пропаганде; сюжет, в котором переплетались и рифмовались «любовь-кровь» (а в моей голове еще вертелось и «морковь»), меня не впечатлил.
Но после фестиваля, на котором Аранович был награжден «Серебряным медведем», он позвонил мне, мы встретились на студии, и он снова стал рассказывать ту историю про девочку-партизанку. Он был увлекающим рассказчиком. И постепенно я тоже увлеклась этой историей. Собственно, ему от меня ничего не было нужно. Ну, разве сторонний взгляд. Ему нужен был кто-то, с кем спорить, на ком оттачивать будущую структуру, кто сразу скажет «бред!», а он вот возьмет—и разубедит.
В сценаристы он позвал Александра Житинского. Хотел, чтоб сценарий написал кто-то, у кого хватит чувства юмора облечь эту жуткую историю во вполне обыденную форму. Чтоб ужасная трагедия не «поперла» сразу. Это было крайне важно для Арановича, который все время твердил: «Случай-то, конечно, экстраординарный, но мировоззрение, из которого все выросло, было вполне распространенным. Почти естественным. Ну да: заведомо отправить на муки и смерть девочку, чтоб “раскрутить” потом историю ее гибели в прессе. Ну и что? Так надо! Подумаешь. Мало что ли у нас девчонок! Страна большая, не обеднеем...»
Позже я прочла сценарий. <…>
Трудно было поверить, что из этого получится что-то более значимое, чем латиноамериканское мыло. Да, авторская изобретательность Житинского смогла увязать в этом лихом хороводе одни сюжетные концы с другими концами. Да, отличающее Арановича природное чувство достоверности обещало, что этот дикий сюжет получит качественную огранку и не будет слишком резать глаз. Но уж больно трудно было себе представить соединение подлинности фактур блокадного Ленинграда и разухабистой клюквы фабулы...
Аранович, в общем-то, рассчитывал всех удивить. О главном он молчал. О том, что хочет делать эту работу как «кино в кино», «театр в театре». <…>
Он успел отснять только треть необходимого материала. Но и по этому немногому уже можно было судить о том, какой энергетики кино могло бы получиться. Мне был показан вчерне смонтированный материал. Нас в зале было трое—Аранович со своим верным «оруженосцем» Тамарой Агаджанян (они, кажется, смотрели это уже раз в десятый) и я, для которой все было внове. В материале Арановича никогда никто не мог разобраться, кроме него самого. Что получилось бы в результате—эта тайна ушла с ним в могилу. Но ощущение, что там, в материале, все кровоточит и болит, было даже в этих 45 минутах экранного времени. В том, как смотрит на гранату девочка в каске. Совсем другая девочка, не из близнецов. Это она должна была стать героиней очерка Иваницкого. Но—нелепая случайность. И «героиню» теперь вызовут «со скамейки запасных», и это будет Вера. В том, как страшно кричит и бьется в руках вертухаев полковник Соболев—Олег Янковский, только что узнавший, что именно ЕГО девочка, его Ника села сейчас в самолет с десантниками. В том, как безнадежно и отрешенно староста Чалый ждет свершения своей участи—записанной равнодушной рукой сытого борзописца, которому никого и ничего не жаль...
А по городу, который снял Аранович, бродили странные тени, похожие на людей. А город был страшен—и прекрасен.
Это снималось в год 50-летия Победы, и фильм явно был не ко двору в момент юбилейных торжеств: слишком просто, слишком страшно...
Аранович не доснял этот фильм не потому, что заболел. Скорее, заболел, когда с отчетливостью осознал, что никогда не доснимет. Этот фильм был его последней болью и последней любовью. У каждого, кто в нем снимался, был шанс. У одних—разорвать рамки приевшегося амплуа, у других—с блеском войти в большое кино. У третьих—вернуться в большое кино. Из маленького.
Не сложилось. У всех.
Информацию о возможности приобретения номера журнала с полной версией этой статьи можно найти здесь |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.