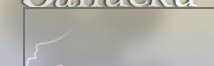|
 |
|
Александр ЛЕВИЦКИЙ
Имя Александра Андреевича Левицкого—одно из известнейших в отечественном кинематографе, в котором он работал на протяжении 60 лет. Его карьера началась еще в 1912 году на студии братьев Пате, затем долгое время он работал в «Русской золотой серии» у П.Г.Тимана, в Скобелевском комитете, на его счету такие картины, как «Дворянское гнездо», «Война и мир». После 1917 года Левицкий продолжил активно работать в игровом кино, снимал хронику (выступления В.И.Ленина, его похороны). В общей сложности им было снято около 300 картин (в том числе «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», «Крест и маузер»).
А.А.Левицкий был одним из первых русских операторов, заговоривших с экрана языком искусства, он активно развивал технику операторского мастерства, с помощью которой вносил в картины эмоциональную насыщенность.
Левицкому посчастливилось работать с такими замечательными режиссерами, как Я.А.Протазанов, В.Р.Гардин, Л.В.Кулешов, однако одна из интереснейших его работ связана с именем В.Э.Мейерхольда. В наступающем году исполняется 90 лет со дня выхода первого из двух фильмов В.Э.Мейерхольда «Портрет Дориана Грея». К сожалению, картина не сохранилась, и теперь мы можем представлять себе дебют великого театрального режиссера в кино только по отдельным воспоминаниям. Заметное место среди них занимает работа А.А.Левицкого, по которой можно восстановить не только обстоятельства создания картины, но и, в какой-то мере, представить конечный результат.
«Мейерхольд был первым из крупных деятелей русского театра, заинтересовавшихся кинематографом не как средством репродуцирования своих театральных замыслов, а как особым, самостоятельным видом творчества… “Портрет Дориана Грея” принес понимание кино как искусства в значительной мере изобразительного. Уделяя огромное внимание работе с актером, Мейерхольд искал особые средства кинематографической светописи, новых впечатляющих в изобразительном отношении живописных кинематографических мизансцен»[1]. В этом, конечно, ему помогали известный театральный, а затем и художник кино, В.Е.Егоров и опытный к тому времени оператор А.А.Левицкий.
В прессе картина вызвала неоднозначную реакцию: от признания ее «высшим достижением русской кинематографии» до полного отрицания каких-либо художественных достоинств этого фильма[2]. Но в любом случае, по мнению известного киноведа С.С. Гинзбурга: «…постановка Мейерхольда оказала заметное влияние на кинематограф предреволюционных лет… И не случайно, что кинематографическая критика через год после выхода “Портрета Дориана Грея” на экраны определяла его как этапный фильм в развитии русского кино»[3].
Судя по лекции В.Э. Мейерхольда, прочитанной в 1918 году в студии экранного искусства Скобелевского комитета, его отношения с Левицким не были гладкими: «Картина “Портрет Дориана Грея” снималась в пору борьбы между режиссером и оператором. В недостатках картины, произошедших от этого спора, повинна и та, и другая сторона»[4]. Однако воспоминания Левицкого написанные уже в начале 1960-х годов, кажутся достаточно объективными—видимо, негативные эмоции со временем остыли.
В 1964 году вышла книга А.А.Левицкого «Рассказы о кинематографе», в которую вошли и воспоминания о съемках «Портрета Дориана Грея», но в сильно сокращенном виде. В Государственном центральном музее кино хранится рукопись этих воспоминаний (ф. 6, оп. 1, ед.хр. 1), которую мы публикуем полностью. В публикацию внесены минимальные изменения: исправлены очевидные опечатки, синтаксис приведен в соответствие с современными нормами русского языка. Некоторую трудность представляла передача прямой речи, которой чрезвычайно насыщен текст. В исходном материале А.А.Левицкого она передается весьма непоследовательно, нами передача монологов, состоящих из нескольких абзацев, была приведена к единообразию—в начале фраза выделяется тире, последующие абзацы— отточием.
1. Г и н з б у р г С. С. Предисловие к публикации лекции В.Э.Мейерхольда «Портрет Дориана Грея».—В сб.: Из истории кино. Документы и материалы. Вып. 6. М., 1965, с. 15.
2. Ф е в р а л ь с к и й А. В. Пути к синтезу. М., 1978, с. 30–35.
3. Г и н з б у р г С. С. Указ. соч., с. 16.
4. М е й е р х о л ь д В. Э. Портрет Дориана Грея».—В сб. Из истории кино. Документы и материалы. Вып. 6. М., 1965, с. 19.
Памяти беспокойного новатора в театральном искусстве В.Э.МЕЙЕРХОЛЬДА, посвящаю свои скромные воспоминания о постановке им фильма по роману Оскара Уайльда «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ» и исполнении роли лорда Генри в 1915 году.
Автор
Шел 1915 год, второй год первой империалистической войны. Русская армия в тяжелых окопных условиях, плохо одетая, в большинстве голодная, заедаемая вшами, часто не имея снарядов и патронов, несла колоссальные потери в людях от хорошо вооруженной, сытой армии Вильгельма. Только героизм и стойкость, присущие русскому солдату, спасали наше командование от окончательного поражения.
Были призваны в ряды армии 45-летние. Объявили призыв нескольких лет ратников второго разряда (вообще не подлежащих призыву). Ожидал и я, что мой год также будет призван, продолжая работать оператором в «Русской золотой серии» у Тимана.
Мой принципал П.Г.Тиман был германским подданным, в начале войны должен был быть выслан из Москвы, но выслан не был и руководил производством фильмов и прокатом до середины 1915 года.
Вскоре после съемки фильма «Война и Мир»[1] наш небольшой, но хороший в творческом плане коллектив, начал распадаться. В.В.Максимов[2] уехал в Петроград, в Киев уехал талантливый скульптор Кавалеридзе, где начал на Киевской студии в качестве режиссера ставить фильмы. Ушел художник Ч.Г.Сабинский[3] и начал за свой счет ставить фильмы. Многие были призваны в армию, многие погибли на войне. Но самым существенным и важным для дела, для многих непонятным, был уход из «Русской золотой серии» от Тимана одновременно двух режиссеров—Протазанова и Гардина[4], их уход был равносилен ликвидации дела. Я не буду входить в детали переговоров, которые были между Протазановым, Гардиным с одной стороны и Тиманом с другой, ограничусь только тем, что на те условия, которые были предложены ими для дальнейшей работы у Тимана, Тиман не согласился. Уход двух талантливых режиссеров был равносилен полному краху всего дела. Из старых сотрудников у Тимана остался пом[ощник] режиссера Д.М.Ворожевский[5] и я, ожидая призыва в армию.
С уходом от Тимана Протазанова и Гардина, Тиман пошел на некоторый риск и пригласил режиссером некоего Уральского, работавшего в «Художественном театре» пом[ощником] режиссера, и второго режиссера провинциального театра В.К.Висковского. Одновременно Тиман вел переговоры с В.Э.Мейерхольдом, от которого получил согласие на постановку им фильма, буквально за несколько дней до своей высылки в город Уфу[6].
С режиссером Уральским я снял фильм «Екатерина Ивановна»[7] с участием Германовой, Берсенева и Дурасовой. Начал второй с ним фильм «Шведская спичка» по рассказу А.П.Чехова. Сняв несколько сцен, передал приглашенному оператору Брице, а сам начал с режиссером Висковским снимать его первый фильм «Елена Павловна и Сережка»[8]. Погода стояла хорошая, съемку на натуре не задерживала, вскоре фильм должны были закончить. Однажды утром мне позвонил Тиман и сказал, чтобы я приехал к нему не позднее пяти часов, так как он ожидает Мейерхольда. К условленному часу я был у Тимана. Ждать не пришлось, ровно в пять часов приехал Мейерхольд, с ним приехал художник B.Е.Егоров[9].
Когда нас Тиман познакомил, Всеволоду Эмильевичу было лет 40–42. Среднего роста, изящная худощавая фигура с небольшой сутулостью в плечах. Манера держать голову при разговоре с собеседником несколько наклоненной вперед была чрезвычайно характерна для него, как бы дополняя стремительность мысли в его глазах под упрямо сдвинутыми бровями на высоком лбу. Волнистые волосы шатена и смуглый цвет лица гармонично дополняли внешний облик Мейерхольда. Такое общее впечатление произвел на меня Всеволод Эмильевич в тот день при первом знакомстве с ним.
В начале, когда мы сидели в гостиной, разговор носил общий характер, не касаясь в основном главной цели его прихода—постановки им будущего фильма у Тимана.
Вскоре, сославшись на неотложное дело, ушел Егоров, и Тиман предложил перейти в кабинет, куда были поданы кофе и ликеры. Постепенно разговор перешел на последнюю постановку Всеволода Эмильевича, в конце которого Елизавета Владимировна Тиман спросила Мейерхольда, что он думает в дальнейшем ставить. Всеволод Эмильевич ответил, что занят подготовкой спектакля в Александрийском театре, работой в студии и над возможной постановкой фильма.
—Я много думал над тем,—обращаясь к Тиману, проговорил Всеволод Эмильевич,—что поставить. Возможно, инсценировать для фильма одну из пьес Д’Аннунцио или использовать для постановки один из романов. Но какого автора и какой роман? <…>
<…>
Итак, в тот день было решено ставить фильм по роману Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», а я должен был фильм снимать. Постановка декораций была поручена художнику В.Е.Егорову, который до этого в кинематографии не работал. Работу над сценарием брал на себя Мейерхольд с привлечением литературного работника Пшибышевского, некого Ахрамовича[10], который впоследствии, после Октябрьской революции, был в числе коллегии «Фотокиноотдела» и трагически покончил с собой, точно не помню—в 24 или 25 году.
Когда уехал Мейерхольд и я остался один с Тиманом, разговор проходил исключительно о постановке Мейерхольдом фильма «Портрет Дориана Грея». Постараюсь возможно кратко изложить чрезвычайно интересный во всех отношениях этап своей работы оператором с одним из выдающихся театральных режиссеров. Мой разговор с Тиманом в этот вечер в кабинете. Об отношении самого Тимана к Мейерхольду. О самой съемке фильма, в каких условиях и как она проходила, о моих взаимоотношениях в тот период с Мейерхольдом.
<…>
Дней через десять позвонила Елизавета Владимировна и попросила меня приехать к ней: «Я получила от Всеволода Эмильевича сценарий для Павла Густавовича с припиской Мейерхольда: сценарий никому не показывать. Я не читала и ждала вас»,—передавая мне тщательно заклеенный пакет, проговорила Елизавета Владимировна.
Сценарий состоял всего из пяти-шести листов, напечатанных на машинке, и озаглавлен «Основные акты к фильму “Портрет Дориана Грея”». К концу чтения сценария было видно явное разочарование у Елизаветы Владимировны, когда она проговорила: «А я ждала от Всеволода Эмильевича нечто иное, я была уверена, что Всеволод Эмильевич и Ахрамович дадут вполне законченный сценарий, в котором будет дана и форма выражения самого действия». <…>
<…>
Я первый раз за время своей работы оператором видел художника, который давал предварительные эскизы декораций фильма.
Вскоре Егоров, который все время посматривал на часы, ушел. Елизавета Владимировна спросила Мейерхольда относительно будущих исполнителей в фильме.
—Пока я остановился на двух главных персонажах романа,—ответил Мейерхольд,—это художник Холлуорд и лорд Генри. Роль художника Холлуорда я предполагаю поручить одному из своих учеников, Энритону[11], он не только хороший актер, но, что главное, обладает характерным лицом и даже некрасивым,—добавил Мейерхольд и продолжал:—Я хочу все внимание зрителя сосредоточить на фигуре Дориана Грея, но до сих пор не остановился ни на одном актере на эту роль. Дориан Грей молод,—продолжал Мейерхольд,—он еще юноша, по определению Оскара Уайльда, прекрасен своей красотой, он обаятелен, он чист как дитя, которого еще не коснулись грязь и пошлость. Дориан богат, высший свет, в котором он вращается, восхищен его красотой, он везде желанный гость. Таким должен быть актер на роль Дориана Грея,—закончил Всеволод Эмильевич.
—Всеволод Эмильевич! Не знаю, как вы к этому отнесетесь: что если роль Дориана Грея поручить актрисе?—предложила Елизавета Владимировна.
—Актрисе?—задумчиво проговорил Мейерхольд.—Однажды у меня в спектакле роль «Стойкого принца»[12] в Александринском театре исполняла актриса Коваленская[13], но на роль Дориана Грея она не подходит.
—В фильме «Вавочка»[14] у нас играла молодая актриса Янова[15],—продолжала Елизавета Владимировна,—Янова красива, молода и обаятельна, я вам говорю это как женщина, кроме этого, по-моему, она хорошая актриса.
—А где я могу ее посмотреть?—как видно заинтересованный предложением Елизаветы Владимировны спросил Мейерхольд.
<…>
Когда Мейерхольд смотрел один из фильмов с труппой японских актеров, обращаясь ко мне по поводу исполнения героиней роли, проговорил:
—Вот актриса, которая с неподражаемым реализмом, доходящим до полного натурализма, передает всю драму женщины, покинутой любовником. С этой стороны она неподражаема.
Всеволод Эмильевич, прощаясь со мной, поблагодарил, сказав, что никогда так много не смотрел фильмов и многое узнал.
Вечером мне позвонила Елизавета Владимировна и сообщила, что Всеволоду Эмильевичу понравилась Янова, Доронин и Белова: «Он просил меня, чтобы я передала вам, что ждет встречи с этими актерами,—и добавила— сегодня буду подробно писать об этом Павлу Густавовичу».
С этого дня началась подготовка к съемке фильма «Портрет Дориана Грея».
Первую съемку Всеволод Эмильевич решил начать с «Пролога».
На репетиции первого дня «Пролога», внимательно наблюдая за ходом репетиции Всеволода Эмильевича с актером, я видел совершенно иной метод работы с актером—от других режиссеров, с которыми до этого снимал.
Сцена «Пролога» по содержанию была почти статуарна, фигуры и лица Дориана Грея и лорда Генри на белом фоне с летящими птицами были силуэтами.
Всеволод Эмильевич, репетируя сцену, требовал от Яновой максимальную четкость и пластику в каждом движении тела, доводя его до графической выразительности.—Каждое движение, каждое положение и жест должны быть обоснованы состоянием, не мельчите их,—говорил Яновой Всеволод Эмильевич.
<…>
В некоторых своих рассказах о съемках дореволюционных фильмов я приводил пример, насколько детально разрабатывал В.Р.Гардин сценарии фильмов, которые он ставил. Но я был буквально поражен той изумительной тщательностью, глубоким проникновением в сюжет и фабулу сцены в мастерской художника в режиссерской разработке Мейерхольда, которую я с большим интересом читал.
Чем дальше я вчитывался в режиссерскую разработку Всеволода Эмильевича, [тем больше] мне казалось, что это нечто похожее на музыкальную партитуру, из которой невозможно удалить или внести иную музыкальную фразу, не нарушив общую гармонию произведения.
<…>
Между тем, несмотря на тщательность и глубину разработки сцены, в ней не было кинематографического действия, которое в то время уже имело свои некоторые особенности, отличительные от сценического построения сцены в театральном спектакле. Не было средних и крупных планов, сцена шла в одном непрерывном действии.
Моя моральная обязанность заключалась в том, чтобы высказать Всеволоду Эмильевичу, какое впечатление я вынес от его разработки сцены, в то же время о многом предупредить его. И я не мог предугадать, как на это он будет реагировать.
<…>
Конечно, для Всеволода Эмильевича мой разговор на эту тему был полной неожиданностью, как и многое другое, чем отличалась постановка фильма от театрального действия. Да и я в начале съемки фильма для него не являлся авторитетом. Перехожу непосредственно к репетиции и съемке первой большой сцены в фильме: мастерская Холлуорда. <…>
<…>
Мейерхольд не изменил свою внешность, за исключением прически на прямой пробор, монокля на широкой ленте и неизменной хризантемы в петлице визитки. Внеся некоторые детали, оставаясь Мейерхольдом, Всеволод Эмильевич настолько глубоко вошел в сложный образ, что даже для меня исчез Мейерхольд, это был английский аристократ лорд Генри Уоттон, когда скучающе-томный, пуская кольцами дым от пахитоски, сидя на оттоманке, он наблюдает за работой художника над портретом Дориана Грея.
—Это ваше лучшее произведение, Базиль, лучшая изо всех вами написанных картин,—с тем [же] скучающим видом проговорил лорд Генри.
Незаметно меняется выражение на лице у Мейерхольда, его заинтересовали слова Холлуорда, когда он говорит, что не выставит портрет на выставку, что он слишком много вложил в него самого себя.
Мейерхольд встает, подходит к портрету, внимательно и пытливо вглядывается в него. Просит Холлуорда познакомить его с Дорианом. На это Холлуорд отвечает, что Дориан для него дорог и он его полюбил не только за красоту, но за его удивительную нетронутую чистоту души, и отказывается познакомить его с Дорианом.
—Я не хочу, чтобы вы своими взглядами на явления жизни могли дурно повлиять на этого чистого юношу, ваше влияние было бы пагубно для него.
Чтобы не загружать рассказ, я опускаю дальнейшие диалоги между лордом Генри и Холлуордом. Конечно, теперь приходится жалеть, что в то время не было звука. Всеволод Эмильевич дал не только внешне ярко впечатляющий образ лорда Генри, но кроме этого, обладая прекрасной дикцией, четкостью в каждой произносимой им фразе и ее музыкальностью, придавал словам глубокие психологические оттенки.
<…>
Сцена была поставлена Всеволодом Эмильевичем как театральная пьеса, в одном беспрерывном действии, без монтажных переходов на средние и крупные планы; на общем плане терялась выразительность образов, их внутренний психологический характер. Большие авторские монологи не только удлиняли метраж сцены, но, что являлось основным, без звучания в них живой сценической речи зрительно утомляли. Бесцельно было рассчитывать на надписи, их потребовалось бы слишком много.
Для Всеволода Эмильевича, когда мы просмотрели позитив на экране, все это явилось полной неожиданностью:
—Да, кинофильм не театральное действие. Кино имеет свои законы… <…>
<…>
В конце просмотра я подробно изложил Всеволоду Эмильевичу, какой характер и рисунок света предполагаю делать в эпизодах, придерживаясь композиционно единого светового стиля фильма. Всеволод Эмильевич полностью согласился с моим планом композиции и общим световым характером и стилем фильма.
Новая режиссерская разработка сцены, которую мне передал в день съемки Всеволод Эмильевич, значительно отличалась от первоначальной разработки. В ней отсутствовали невероятно длинные авторские диалоги, в то же время сохранялось основное авторское содержание. В сцену были внесены средние и крупные планы, текст надписей; в общем, несмотря на большое сокращение, режиссерская экспликация была не менее тщательно разработана.
Новая разработка потребовала иной планировки мизансцены: <…>
<…>
…Жалею, что слишком ограничено время для постановки фильма, меня ждет новая постановка спектакля в Петрограде, многое из того, что я думал ввести в фильм, не позволит время. Следующую сцену я буду ставить, когда Дориан первый раз приходит в театр, и знакомство с Сабиллой Вейн,— проговорил Мейерхольд.
<…>
Не могу обойти молчанием один чрезвычайно характерный факт отношения Всеволода Эмильевича лично ко мне. В начале нашей совместной работы Всеволод Эмильевич относился ко мне довольно холодно, и даже с недоверием. Только после съемки пролога и мастерской Холлуорда его отношение постепенно изменилось. Особенно это стало заметным во время последней съемки улицы.
<…>
Я ожидал, что Всеволод Эмильевич будет возражать, скажет, что все то, что я делаю,—натурализм. Нет, возражений не последовало, наоборот, он с интересом наблюдал за моими приготовлениями.
Не последовало возражения, когда я предложил снять после общего плана более крупно план возвращения Дориана к афише и вход его в театр.
<…>
Я не буду утомлять читателя рассказом как проходили репетиции и съемки предыдущих сцен, а перехожу к съемке сцены в ложе с Дорианом, лордом Генри и Холлуордом, когда они смотрят «Ромео и Джульетту» с Сабиллой Вейн, и к сцене разрыва Дориана с Сабиллой Вейн.
<…>
Когда Мейерхольд ознакомил с режиссерским планом сцены Янову и Белову, Янова хорошо знала роман, но не знала до этого режиссерскую трактовку сцены и в ином плане представляла себе развитие драматургии действия, иное свое психологическое состояние в сцене.
Янова утверждала, что, по ее мнению, Дориан любил Сабиллу Вейн не только как одаренную актрису, но у него было и чувство чистой юношеской любви к ней.
<…>
Надо ли после этого говорить, что вся сцена была поставлена в том плане, о котором говорил Мейерхольд Яновой.
Мейерхольд, репетируя, разделил всю сцену на ряд последующих психологических этапов. Первый этап, когда Сабилла Вейн радостно и восторженно идет навстречу вошедшему Дориану.
<…>
Когда я вспоминаю съемку этой сцены, мне делается жаль, что в то время не было современной съемочной аппаратуры, а был неуклюжий аппарат «Патэ». Нельзя было делать наезды, не было возможности свободного панорамирования. Сцену снимал максимально крупно, часто прибегая к панорамированию ручками, что было страшно неудобно, усложняя весь процесс съемки.
<…>
Так заканчивал Всеволод Эмильевич первую часть сцены.
Следующая сцена в той же гостиной, заходящее солнце не освещает портрет, часть гостиной в полумраке. Дориан сидит в кресле и смотрит на портрет, закрытый большим каминным экраном.
—Возможно, все это игра света, тени, игра воображения,—шептал Дориан. Дориан встает, подходит к портрету, медленно отодвигает экран.
Итак, его страстное желание, которое он высказал в мастерской Холлуорда, исполнилось. Он будет вечно юным, а портрет стар и [будет] не только стареть, а будет отражать его душу, его совесть, его дурные поступки в жизни.
И Дориан, всматриваясь в изменившиеся черты его лица на портрете, шептал: «Я понял, как грубо, эгоистично оттолкнул Сабиллу, которая меня искренне любит. Я исправлю свой поступок, буду умолять ее простить меня, она будет моей женой!».
И Дориан с трепетом всматривался в портрет, не произойдет ли в нем изменения. На него по-прежнему смотрели холодные глаза.
Всеволод Эмильевич в композиционном построении мизансцены, в режиссерских разработках и непосредственно в съемках редко видоизменял характер литературного изложения сцены в романе.
В сцене, когда Дориан вторично убеждается в изменении портрета [и,] по роману, он пишет письмо Сабилле, в котором раскаивается в своем поступке, Всеволод Эмильевич, не изменяя мысли автора, текст письма Дориана к Сабилле заменил на крупном плане диалогом Дориана перед портретом, ожидая, что портрет, когда услышит его раскаяния, вновь примет прежний вид.
<…>
…Для лорда Генри,—говорит в этом месте романа Оскар Уайльд,— доставляло острое наслаждение играть на бессознательном эгоизме юноши». И я, дружески вас обнимая, отвечаю на ваш вопрос: «Назвать вас человеком без сердца никак нельзя после всех безумств, которые вы натворили за последние две недели».
…Этими словами я заканчиваю сцену, а вы, Александр Андреевич, уходите в затемнение.
…А теперь приступим к репетиции,—проговорил Всеволод Эмильевич.
Я не буду повторять, как проходила репетиция и съемка, об этом читатель знает по предыдущим сценам, о которых я уже писал.
<…>
Я снимал и в то же время думал о возможности хотя бы минимально светом усилить выразительность лица Дориана и решил видоизменить первоначальную [схему] световым эффектом. Об этом я сказал Всеволоду Эмильевичу, не встретив с его стороны возражения, начал менять световую схему.
По новой схеме свет от лампы не освещал лицо Яновой, а только давал световой контур на фигуру и слабый контур на волосы. Лицо и вся фигура в полусилуэтном свете и только глаза освещались нижним светом. При современной осветительной аппаратуре подобный эффект для оператора несложен, нечто иное было сорок лет тому назад. Два тонких угля, вмонтированных в асбест, направленные Кузнецовым, высвечивали глаза Яновой. Временами угли начинали мерцать, гаснуть, дымить, шипеть и обжигать пальцы Кузнецову.
В такие моменты, в свою очередь, и я начинал шипеть на Кузнецова:
—Свет, свет на глаза!—продолжая крутить ручку аппарата, а в этот момент угли гасли, и сцену вновь надо было переснимать.
<…>
…Холлуорд подходит к Дориану, кладет ему руку на плечо, говорит: «Все что вы говорите, Дориан, ужасно! Вы были такой хороший, славный мальчик! Я понимаю, это все влияние на вас Гарри». Пауза.
Всеволод Эмильевич редко изменял характер содержания и действия в романе Оскара Уайльда. Но в этой сцене внес значительные изменения в отношения Холлуорда к Дориану. Когда Всеволод Эмильевич вносил даже незначительные изменения в авторское содержание, он детально его анализировал и детально обосновывал, почему изменял действие или характер содержания.
На репетиции сцены «Приход Холлуорда к Дориану» Всеволод Эмильевич говорил Холлуорду (Энритону): «Оскар Уайльд в романе пишет, что Холлуорд был влюблен в Дориана, и он его боготворил за красоту».
В характере отношения Холлуорда к Дориану Всеволод Эмильевич находил нечто патологическое и внес в действие изменения <…>.
<…>
У меня сохранилась краткая запись о просмотре сцены. Когда прошел кадр первого плана Дориана с его монологом перед портретом, сидевший рядом Егоров зашептал мне: «Красиво и талантливо, удачно провела сцену, без надписи понятно, о чем она говорит». И вторая его фраза, когда Янова после ухода лорда Генри стоит на крупном плане перед портретом: «Вот здорово! Не Янова, а молодой фавн!»—воскликнул Егоров, когда появился ее план в полусилуэтном и нижнем свете.
<…>
Второй вариант—с полусилуэтным светом на лице и нижним светом на глаза, отчасти придавал лицу Яновой то внутреннее выражение, о котором говорил Всеволод Эмильевич, а всей сцене мистическое настроение.
Прав был Всеволод Эмильевич, когда говорил Яновой, что он ставит перед ней сложную психологическую задачу, трудновыполнимую для нее. Зная, что Янова не сможет передать сложный подтекст Уайльда, он все же решил снять эту часть сцены на крупном плане. Было ли это с его стороны экспериментом или нечто иное, конкретно ответить на это не берусь. После просмотра Всеволод Эмильевич остановился на этой сцене, которая и вошла при монтаже фильма.
<…>
Ночь. Темная классная комната Дориана. Медленно открывается дверь, с свечой в руке, осторожно шагая, входит Дориан. На нем старый, весь мятый макинтош, на голове старая шляпа, на ногах стоптанные ботинки. Дориан, закрыв дверь на ключ, подходит к портрету, отдергивает покрывало. С портрета на Дориана смотрят тусклые порочные глаза, когда-то прекрасные черты лица в морщинах, а на тонких губах застыла злобная улыбка.
И Дориан без содрогания смотрит на свой портрет, отражающий каждый шаг его жизни, каждый порочный его поступок, скрытый от всех его великосветских знакомых. И только он один на портрете, как в хартии, куда заносится его жизнь, читал ее.
Дориан берет зеркало, снимает шляпу, проводит рукой по пышным кудрям волос и с улыбкой смотрит на седеющие клочья волос на портрете. Дориан вновь и вновь со свечой в руке всматривается в портрет, сравнивая себя в зеркале. И радостная, счастливая улыбка не сходит с его лица. Портрет стареет, а он по-прежнему юн и так же прекрасен, и никто не знает его вторую порочную жизнь.
Дориан тщательно накрывает портрет и крадущимися шагами выходит, закрыв за собой дверь. Классная комната вновь погружена во мрак. Сцена уходит в затемнение.
<…>
…Если я раньше просил вас в каждый жест, движение вкладывать смысл, не делать непродуманных движений, то в данной сцене наоборот, находясь в нервном возбужденном состоянии, говоря, делайте резко подчеркнутые жесты, они будут оправданы всем вашим состоянием.
…Теперь о вашем состоянии и действии,—обратился Всеволод Эмильевич к Холлуорду.—В этой сцене, так же как и в предыдущей, я не изменяю сюжетную линию романа, значительно изменяя фабулу драматургии действия в сцене и психологию Дориана, в некоторой части и вашу.
<…>
После просмотра Всеволод Эмильевич сказал, что хочет поговорить со мной относительно съемки следующих сцен.
—Я буду ставить сцены следующего дня, после убийства Холлуорда,— начал объяснять мне Всеволод Эмильевич, когда мы пришли в режиссерскую.
…В спектакле я [бы] ограничился одной сценой в гостиной, не показывая сцену Кэмпбеля в детской,—продолжал Всеволод Эмильевич,—в фильме я хочу развернуть действие в трех декорациях: спальня, гостиная и детская, давая в каждой из них основные ключевые места в динамическом развитии действия.
…Однажды вы мне говорили, что [практикуется] съемка сцен, взаимно вытесняемых. Объясните, каким способом это делается?
Я подробно рассказал Всеволоду Эмильевичу и предложил посмотреть эталонную копию фильма «Драма по телефону», которую снимал с Я.А.Протазановым, сцены в ней были сняты с переходом одна в другую.
<…>
В постановке Всеволодом Эмильевичем этого эпизода я не пишу о его сложном творческом процессе над выявлением особенностей в характерах и действиях Дориана и Алана Кэмпбеля, но даю по своим кратким заметкам, в том монтажном плане, как был снят весь эпизод: <…>
<…>
—Большие потенциальные возможности может иметь кинематограф,— проговорил Всеволод Эмильевич, когда закончили просмотр снятого материала фильма.—Но на данном этапе кинематограф слишком далек, чтобы передать глубокие эмоциональные чувства. Нужны не глухие, мелькающие надписи, а живой, характерный для каждого образа язык.
…Эпизод не вскрыл всю глубину, драматизм переживания Кэмпбеля, когда он был буквально поставлен в безвыходное положение,—продолжал Всеволод Эмильевич.— С какой силой презрения, в то же время безвыходностью, звучали бы его слова, обращенные к Дориану: «Вы подлец, гнусный подлец», а в промелькнувшей надписи они производят впечатление как грубое, вульгарное ругательство. Вы хорошо сделали, поместив надписи, которые были в съемочном плане по роману, но эту надпись необходимо вырезать,—закончил Всеволод Эмильевич.
Конечно, нельзя не согласиться с Всеволодом Эмильевичем, что надпись без внутреннего подтекста можно было прочесть как вульгарное ругательство.
В то же время меня естественно интересовало, какое его общее впечатление от съемки всего эпизода в целом.
—Эта сцена, как некий эксперимент в динамике беспрерывного развития эпизода,—начал Всеволод Эмильевич,—в котором ритм возникновения мысли и действия вспыхивает как бы одновременно, не может глубоко раскрыть характерные черты образа.
…Ускорение ритма действия в сцене «Дориан в спальне» [и] в сцене «Дориан и Кэмпбель в гостиной», предельно сжатое содержание не способствовали глубокому раскрытию драматургии действия. Повторяю, я смотрю на съемку данного эпизода, как на эксперимент. В некотором роде интересный эксперимент,—заканчивая ответ на мой вопрос, добавил Всеволод Эмильевич.
Следующую сцену снимали в курильне опиума.
<…>
Как видит читатель, вся сцена проходит в быстром темпе и на большой динамике, я передал ее почти текстуально.
Несмотря на то, что сцена в романе развивается в быстром темпе, в ней много текста. Читатель из рассказа знает, что Всеволод Эмильевич был большим противником надписей даже тогда, когда, казалось, они были необходимы. Диалоги, авторский подтекст для Всеволода Эмильевича служили для глубокого раскрытия действия, психологии, внутреннего состояния и характера образов.
В сцене Всеволод Эмильевич сохранял стремительность действия. На репетиции мизансцены, в которой было несколько средних планов, он говорил Яновой:
—Растерянность, страх, животный страх испытываете вы от неминуемой расплаты, когда узнаете, что это брат Сабиллы Вейн. Вы не сопротивляетесь, чувствуя, что это бесполезно. И только после слов Джеймса, что он искал вас восемнадцать лет, мелькнула мысль и, как ни мимолетна она у вас была, ее необходимо выразить; тогда, срывая с головы шляпу, вы говорите: «Да посмотрите на меня!»
…Резкий переход от решимости застрелить ненавистного вам человека, в свою очередь, к полной растерянности, ужасу, что вы могли убить невинного человека, когда Дориан сбросил шляпу,—говорил Всеволод Эмильевич Джеймсу (М.И.Доронину[17]).
…Вы быстро овладели своим состоянием и даже с иронией говорите Джеймсу: «Ступайте-ка домой, а револьвер спрячьте, не то попадете в беду»,—в заключение говорил Всеволод Эмильевич Яновой.
Репетиция продолжалась довольно долго, когда сцену смотрели на экране, она была настолько выразительна, что потребовалось только три коротких надписи.
Шел август месяц. Съемка фильма подходила к концу, осталось снять сцену в зимнем саду, охоту и заключительную сцену в детской Дориана. Всеволод Эмильевич спешил закончить фильм, его ждала постановка в Петрограде[18].
—Я значительно изменяю многие события после встречи Дориана с Джеймсом Вейн[ом] в курильне опиума,—говорил мне Всеволод Эмильевич.—Многое сокращаю, вношу несколько новых сцен, которые имеются в авторском подтексте.
<…>
Заключение
<…>
Однажды вечером раздался телефонный звонок. Говорил Всеволод Эмильевич и просил меня зайти к нему в театр.
Я несколько лет не видел Всеволода Эмильевича, и меня поразила та перемена, которая произошла с ним за это время. Я положительно не узнавал в похудевшем, но тщательно выбритом [человеке] всегда спокойного и корректного Мейерхольда, когда он, нервно жестикулируя, в повышенном тоне говорил мне, что «Комитет»[19] не проявил к его постановке «Зорь» Верхарна[20] должного внимания.
<…>
Через несколько дней В.А.Кузнецов с большим трудом получил в Фото-киноотделе несколько «юпитеров», что дало мне возможность исполнить просьбу Всеволода Эмильевича: я снял спектакль. Сделав увеличение на 18/24[21] разнообразных сцен из спектакля, я передал их Всеволоду Эмильевичу.
<…>
1. «Война и мир»—сцен. и реж. В.Гардин и Я.Протазанов, опер. А.Левицкий, худ. Ч.Сабинский и И.Кавалеридзе, вышел на экраны в апреле 1915 г., не сохранился.
2. Максимов (Самусь) Владимир Васильевич (1880–1937)—актер, один из «королей экрана», в 1906–1918 годах—актер московского Малого театра, в 1919–1924—ленинградского Большого драматического театра, отъезд в Петроград в 1915 году, скорее всего, ошибка памяти А.А. Левицкого.
3. Сабинский Чеслав Генрихович (1885–1941)—художник театра и кино, кинорежиссер, сценарист. От Тимана уходит в фирму Ермольева, где начинает карьеру режиссера. (Подробнее см.: Великий кинемо. М., 2002, с. 516–517).
4. В прессе Я.А.Протазанов и В.Р.Гардин заявили, что фирма П.Г.Тимана потребовала производства исключительно большого метража и числа картин, что не может не отразиться на их художественной ценности, поэтому они вынуждены уйти. Протазанов стал первым режиссером в Товариществе «И.Ермольев», а Гардин с помощью промышленника Венгерова организовал Торговый дом «В.Венгеров и В.Гардин».
5. Ворожебский Дмитрий Матвеевич—администратор и второй режиссер в фирме Тимана. В тексте ошибочно назван Ворожевским.
6. П.Г.Тиман покинул Москву в конце мая 1915 года.
7. «Екатерина Ивановна» (второе название «Жена-вакханка»)—экранизация одноименной пьесы Л.Андреева по сценарию автора, вышел на экраны в сентябре 1915 г., не сохранился.
8. «Елена Павловна и Сережка» (второе название «Сила любви»)—экранизация одноименного романа А.Вербицкой, вышел на экраны в октябре 1915 г., не сохранился.
9. Егоров Владимир Евгеньевич (1878–1960)—художник театра и кино, работал в Московском художественном театре, где осуществил знаменитую постановку «Синей птицы». После оформления «Портрета Дориана Грея» стал активно работать в кино (см. Великий кинемо, М., 2002, с. 508–509).
10. Ахрамович (псевд. Ашмарин) Витольд Францевич (1882–1930). До 1917 года занимался газетной, книгоиздательской, театральной, кинематографической и переводческой (в частности, переводил романы С.Пшибышевского) деятельностью, входил в кружок символистов. После 1917, по некоторым данным, сотрудничает с ЧК, ОГПУ, работает в редакции газет «Известия ВЦИК», минская «Звезда». С 1926 года сотрудник аппарата ЦК ВКП(б). В 1930 году покончил с собой.
11. Энритон Г. (наст. имя и фам. Нотман Генрих Фридрихович)—ученик студии В.Э.Мейерхольда, актер, режиссер периферийных театров. В тексте ошибочно назван Энритовым.
12. «Стойкий принц»—спектакль по пьесе П.Кальдерона, премьера состоялась 23 апреля 1915 года.
13. Коваленская Нина Григорьевна—актриса Александринского театра. В тексте ошибочно названа Кавалевской.
14. «Вавочка»—экранизация одноименного романа А.Вербицкой, сцен. и реж. В.Гардин, опер. А.Левицкий, вышел на экраны в октябре 1914 г., не сохранился.
15. Янова Варвара Поликарповна—актриса киевского Соловцовского театра.
16. Фильм «Отцы и дети» (реж. В.Висковский, опер. А.Левицкий) вышел на экраны в сентябре 1915 г., фильм сохранился не полностью, без надписей.
17. Доронин Михаил Иванович—актер, режиссер. В картине «Отцы и дети» исполнял роль Базарова.
18. По-видимому, речь идет о постановке «Грозы» А.Н.Островского в Александринском театре, премьера состоялась 9 января 1916 г.
19. Вероятно, имеется в виду Всероссийский фотокиноотдел, в который был преобразован Московский кинокомитет, существовавший в 1918–1919 годах.
20. «Зори»—спектакль Первого театра РСФСР, реж. В.Э.Мейерхольд, В.М.Бебутов, премьера состоялась 7 ноября 1920 г.
21. Имеется в виду традиционный размер фотоотпечатка 18x24.
<…>
Публикация, предисловие и комментарии А.В.Баталиной
Фильм не сохранился. В Государственном центральном музее кино хранятся лишь 14 кадров и фотоотпечатки с них. Несколько из них мы воспроизводим. Редакция журнала признательна за это заведующей фототекой Музея кино М.А.Кушнировой.
Информацию о возможности приобретения номера журнала с этой публикацией можно найти здесь. |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.