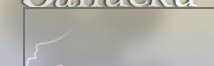|
 |
|
Во время съемок своего фильма «Лили Марлен» Фассбиндер принял в своей мюнхенской квартире автора книги* Вольфганга Лиммера и редактора журнала «Шпигель» Фрица Румлера и дал в общей сложности девятичасовое интервью.
ВОПРОС. Среди немецких деятелей культуры вряд ли найдется кто-то еще такой ужасный, как Райнер Вернер Фассбиндер. Среди немецких кинематографистов вряд ли найдется другой, кто бы так маниакально кружил вокруг своего эго, как Райнер Вернер Фассбиндер. Являются ли плодотворность и эгомания двумя сторонами медали под названием Фассбиндер?
ФАССБИНДЕР. Во-первых, я не думаю, что я один занят самим собой. В определенном роде этим занимается и Александр Клюге. Только делает он это, как бы дистанцируясь от себя. А то, что я занимаюсь этим более других, могу объяснить только следующим образом: наверное, это своего рода болезнь—или попытка справиться с этой своего рода душевной болезнью.
—То есть Вы хотите сказать, что творчеством Вас заставляет заниматься душевная болезнь?
—Несомненно. Не то, чтобы с головой было не все в порядке, но это имеет отношение к психическому заболеванию, а к какому, я пока не знаю.
—Значит, когда Райнер Вернер Фассбиндер снимает фильмы, то это является своего рода терапией?
—Наверняка в этом присутствует терапия. Несомненно. И всегда в этом есть попытка понять что-то лучшее в самом себе, нечто неопределимое. Это не терапия с помощью врача, как в психоанализе, а терапия через творчество.
—Процесс обретения самого себя через творчество?
—Конечно, это процесс обретения самого себя, но без помощи психоаналитика. Это попытка самоанализа без аналитика—без фигуры, которую можно было бы нагрузить всевозможным злом или добром. Возможно, я и занимаюсь анализом, но не прибегаю при этом к процессу «заполнения чего-либо своими проблемами».
—Хотите ли Вы при этом что-то найти, или же Вы от чего-то убегаете?
—Это трудный вопрос. С ходу я бы ответил на него, что я, конечно, ни от чего не убегаю, а хочу что-то найти. Это совершенно ясно. Убегаю ли я иногда все же от чего-то? Возможно. Но это бы означало, что я уже что-то нашел, зачем же мне тогда убегать?
—Давайте остановимся на понятии «душевное заболевание». У каждой болезни есть определенные симптомы, определенные внешние признаки и способы камуфляжа. Не могли бы Вы назвать нам эти вещи?
—Уже ребенком я страдал от того, что называют маниакально-депрессивным состоянием. Работа во многом помогла мне и продолжает, очевидно, помогать до сих пор избегать опасностей, которые могли бы ввергнуть меня в депрессию... Многим, страдающим от маниакальных депрессий, грозит опасность, что депрессия возьмет верх, и тогда они столкнутся лицом к лицу с нынешними методами лечения—их начнут пичкать всеми этими лекарствами. Возникает опасность перехода депрессии в жуткое спокойствие. Мне не хотелось бы быть человеком, постоянно пребывающим в состоянии печали, мне бы очень хотелось (о боже, если я сейчас снова произнесу слово «нормальным», это будет неправильно понято, но, тем не менее, я произношу его)… мне бы очень хотелось быть нормальным, а не депрессивным.
—Рассматриваете ли Вы это свое состояние как результат процесса воспитания?
—Нет. Если бы я утверждал, что это результат процесса воспитания, это было бы выдумкой. Я ведь начал работать, когда почти ничего о своей болезни не знал. Не было такого, что я сказал бы: принимайся-ка теперь за работу, это поможет тебе выйти из депрессии. Я могу сказать это только теперь, задним числом.
—В чем проявлялось в Вашем детстве маниакально-депрессивное состояние?
—Неважно, происходит ли это с ребенком или со взрослым—это такое чередование высоких высот и глубоких глубин.
—Ликующий до небес, опечаленный до смерти?
—Ликующий до небес, опечаленный до смерти, и все это в беспричинном чередовании. Нет никаких причин, чтобы вдруг стать счастливым, и нет никакой причины, чтобы вдруг стать несчастным. И в детстве это выражалось не намного иначе, чем позднее.
Иногда я был счастливым, веселым и с огромным удовольствием играл с другими детьми—и вдруг у меня пропадало всякое желание играть. И тогда я просто усаживался где-нибудь в уголке. Другие этого никогда не понимали. Думали, что я валяю дурака...
—Был кто-нибудь рядом, на кого Вы могли бы опереться?
—Нет, никого не было. Людей было много: в нашем доме была, во-первых, частная практика моего отца, во-вторых—пансион, где многие жили подолгу, так что в детстве я больше имел дело с ними, чем со своими родителями. Мне весьма трудно было решить: кто же на самом деле мои родители, с кем нужно поддерживать более интенсивные отношения? Думаю, что у меня действительно не было никого, на кого можно было бы опереться. А может быть, таких людей было слишком много.
—Но Вы стремились найти прочные отношения?
—Возможно, тогда я искал их. Сегодня я бы сказал: это хорошо, что их не было. То, что у меня не было нормальной семьи, сделало меня богаче.
—То, что Вы описали, является классической ситуацией, из которой позднее развивается гомосексуальная фиксация. Отдаленность от отца, который уже не выполняет функцию идеала; возможно, также отдаленность от матери, которая, согласно одной из теорий в психологии, выполняет функцию зеркала. Это значит, что сын должен найти самого себя в глазах матери. Вы согласны с такой точкой зрения?
—Да. Но во всех этих теориях мать играет невероятно важную роль как лицо, к которому ты обращаешься.
—Она может выполнять две функции. Она может играть доминирующую роль—тогда она поглощает сына, полностью сливается с ним. Но она может также способствовать гомосексуальной фиксации сына—отпадает ее функция зеркала, имеющая такое важное значение для становления ребенка как личности.
—Да. Но все это не так просто. Гомосексуальность, наверное, является социальной вещью, а не врожденной. Вряд ли она передается по наследству. Она определенно имеет отношение к тому, что ты пережил в детстве. Это немецкое послевоенное общество было таким странным, рождались семейные образования, которые действительно были чем-то новым.
—А что за семья была у Вас?
—Своего рода большая семья, в которой, однако, не было семейной иерархии и никакой защитной функции. Поэтому я не стал бы так прямо относить к себе все эти теории. Когда я стал постарше, обо мне больше заботилась моя мать, чем мой отец; когда мне было пять лет, он уже ушел, и я только помню, что я не умел различать людей друг от друга. Была, к примеру, одна женщина, ее звали Анита, для меня она была «дама Анита». И каждый день она хотела знать, кого я больше люблю—ее или свою мать, а я действительно любил их обеих одинаково. Роль моей бабушки была однозначна: она была на кухне и кормила меня. И это было очень важно.
—Были ли еще мужчины в семье, после ухода Вашего отца?
—Мы переехали в новую квартиру на той же самой улице; в ней сдавались только комнаты. И тут были другие мужчины. К моему большому неудовольствию, у матери появился семнадцатилетний любовник, а мне тогда было восемь или девять. Ему было семнадцать лет, а он хотел разыгрывать из себя моего отца! Мне ничего не оставалось, как только смеяться.
—Кто направил Вас в штайнеровскую школу? Ваша мать—или это была чистая случайность?
—Нет, просто по-другому нельзя было. Меня выгнали из общеобразовательной школы, сказав, что меня надо отдать в школу для трудновоспитуемых. И тогда, наверно, мой отец и моя мать (а кто же еще?) приняли решение отправить меня в штайнеровскую школу, потому что они не хотели видеть меня среди трудновоспитуемых детей.
—Что-то осталось от «штайнеровской» идеологии?
—Наверняка что-то осталось, но я вряд ли смогу это сформулировать. С тех пор я вообще не занимался антропософскими идеями. В памяти осталась одна единственная фраза: «Дети должны расти, как цветы». Как идея это прекрасно, только в действительности этого не было.
—В какой штайнеровской школе Вы учились?
—В Мюнхене, на Леопольдштрассе. Каждый день я должен был ехать через весь город на трамвае в Швабинг. Моя мать была в больнице, отца не было. И только от меня одного зависело, пойду я в школу или нет.
«Я не сойду с алтаря»
—Это «невоспитание», это «цветочное произрастание» Вы рассматриваете как недостаток или как нечто позитивное?
—Как нечто позитивное—если кто-нибудь делает из этого нечто позитивное. Когда вырастаешь, как цветочек—не получая наказания, если совершаешь зло, или похвалы, если совершаешь добро,—тогда ты сам должен принимать решения и интересоваться определенными вещами. Если этого не делать, тогда это наверняка плохо. Но для меня это было естественно и напоминало нечто из моего совсем раннего детства. Ну, например, у нас в доме никогда не было этих обычных книжек с картинками для детей. Никакого «Штруввепетера»[1] и тому подобного, комиксы были запрещены. Для меня книжками с картинками были альбомы Дюрера, лежавшие повсюду, или Альтдорфера[2], или Микеланджело. Это были мои книжки с картинками.
—А медицинские книги Вашего отца—они сыграли какую-то роль?
—Однозначно: нет. Мой отец—это человек, который знает все. Он может объяснить все, будь то полеты в космос, Дюрер или политика—он все знает.
—Ваш отец, у которого, очевидно, были все предпосылки, чтобы стать «сверхотцом», не был Вам в тягость?
—Нет, ведь он—сумасшедший. Мой отец—странный человек. Он, собственно говоря, большой художник, большой поэт, имеющий только один недостаток: он может творить только тогда, когда полностью обеспечен финансово. А этого с ним никогда не бывало. Он умрет, не имея никакого обеспечения, потому что избежал опасности создать что-то действительно стоящее в искусстве. Он настоящий сумасшедший: только представьте себе, с пеной у рта утверждает, что если бы хоть раз в жизни он был достаточно обеспечен, чтобы заниматься поэзией, тогда бы он удивил весь мир.
—И его завещание теперь исполняет его сын, снимающий фильмы?
—Не знаю, все ли так просто. (Громко смеется.)
—Каково Ваше первое детское воспоминание, которое осталось у Вас в памяти? Когда вы осознали самого себя?
—Первые детские воспоминания? Это трудно, потому что многое тебе потом рассказали, а ты думаешь, что это воспоминание. Но что абсолютно точно, так это вопоминания о Зендлингерштрассе, на которой у моего отца была первая частная практика. Это была улица проституток в Мюнхене. И встречи с этими дамами, и запреты подходить к ним—все это я очень хорошо помню. Потом есть еще странные вещи. Я как-то провел несколько ночей в доме напротив, в семье со множеством детей, которые все спали в одной постели. Эти дети интересовались главным образом пальцами на ногах. Пальцами на ногах! У кого пальцы были самыми большими или самыми маленькими. Мне кажется, что самые большие были важнее всего. Хотя это воспоминание, не имеющее никакого смысла, но воспоминание.
Потом мюнхенская церковь Асам-кирхе. Ее я помню достаточно хорошо. С ней связана одна история. Но, наверняка, мне ее рассказали. В один прекрасный день я сидел на алтаре Асам-кирхе. Моя бабушка, которая была строгой католичкой, искала меня по всей округе и нашла в этой церкви сидящим на алтаре, и захотела стащить меня вниз. Я ей сказал: «Нет, я не сойду с алтаря».
—Это весьма интересная сцена.
—Сцена потрясающая. (Смеется.) Ну и какой же вывод делают из этого господа аналитики?
—Мы с удовольствием предоставим Вам самому сделать вывод.
—Я не могу из этого сделать никакого вывода. Вы спрашиваете меня о моих воспоминаниях—вот вам одно такое воспоминание, о котором я бы сказал, что это смесь воспоминания и рассказанного…
—Эта сцена с алтарем очень сильно напоминает о фильме Рауля Уолша «Автоматы»[3], в котором Джеймс Кегни[4] в роли преступника, во всем повинующегося матери, в конце фильма стоит на круглой цистерне с бензином, похожей на глобус, и кричит: «Мамочка, я добился своего. Теперь я на самом верху».
—Это один из моих самых любимых фильмов тоже.
—Он хотел доказать своей матери...
-... самому себе и всему миру, что он чего-то стоит, но только такой ценой, когда он, в конце концов, взрывает самого себя.
—И всемогущего отца на алтаре?
—Нет, нет... В три года я еще не знал, что мне нельзя было туда. Я не думаю, что это так.
—Когда у Вас в детстве впервые появилось чувство, что Вы осознаете самого себя? У многих детей это переломный момент в жизни, когда они впервые воспринимают себя как отдельное существо, с которым им предстоит жить в будущем.
—Есть два переживания, оба имеющих отношение к игрушкам. У сына одного из пациентов была игрушечная обезьяна, и я сказал этому ребенку, что мне очень хочется эту обезьяну. Но он мне обезьяну не дал—в первый день не дал, во второй. На третий я сломал ему эту обезьяну. За это я был наказан. Так как мне, видимо, не позволяли иметь игрушек, после этой истории с обезьяной бабушка сделала мне куклу. Она была сделана из ткани, а внутри набита камнями. И как-то раз на кухне я так разозлился на бабушку, что бросил в нее эту куклу, и она разорвалась. Потом я очень долго жалел свою бабушку, ведь она так долго мастерила эту куклу, а я ее разорвал. Я и по сей день жалею об этом. Ну что еще? Обезьяна и кукла.
—Значит, уже тогда появились инструменты режиссера—умение обращаться с куклами, умение обращаться с людьми.
—Возможно. Ну, что еще было? Если бы мне в один прекрасный день удалось узнать, что же это такое было с семьей в доме напротив, с этими пальцами на ногах! Меня это, правда, очень интересует. Или я себе все это только воображаю и перевожу на пальцы ног?
—С членов на пальцы ног?
—Да, наверное. Но я твердо убежден, что это были пальцы ног. И ничто меня в этом не разубедит.
—Поэтому в Ваших фильмах покорные женщины так любят целовать мужчинам ботинки?
—Ах, не знаю.
—Этот фетишизм Вы найдете уже у Бунюэля.
—Да. Он есть у него, но выражен более ярко. Но это имеет больше отношение к фетишизму обуви. Это затянутое шнурками, это восхитительно затянутое... Я не в таких сложных отношениях с сапогами и ботинками.
—Обращали ли Вы внимание на то, что чем тоньше человек, тем более брутальную обувь он носит?
—Я могу это утверждать только о самом себе. (Долго смеется).
«Я действительно пытался заставить свою мать замолчать»
—У Фрейда есть одно изречение: «Неудовлетворенная мать выходит замуж за своего сына». Имело ли место в переносном смысле это событие в Вашем развитии?
—Думаю, что это была больше проблема моей матери, чем моя. У моей матери был свой способ терапии—она в своих мечтах выходила за меня замуж. Мне всегда казалось это странным. Мне было не очень приятно выслушивать ее рассказы об этих мечтах. Меня пугало, когда я вдруг замечал, что я как простой индивид, как человек был так важен для нее. По сей день меня это смущает.
—Вы не замечали у своей матери черты паранойи?
—Я бы не сказал—«паранойи». Боже мой, бедняжка так долго болела. У нее просто не было времени стать параноиком.
—А что у нее было?
—Это никого не касается. Спросите у нее сами. Если она ответит, тогда все в порядке. Я и так слишком далеко зашел. Она просила меня исключить свою болезнь из всего, что я делаю. Однако это трудно исключить, когда я вынужден говорить о том, что ее не было. А что мне сказать, где она была? Она была в больнице, и это повторялось всё снова и снова—год, три четверти года, полгода, полтора года. Думаю, каждый может догадаться, о чем в то время в Германии идет речь.
—Вас считают—и многое говорит в пользу этого—приверженцем Фрейда. Ответили ли Вы на эту сильную любовь матери эдиповым комплексом, эдиповыми мыслями?
—Нет. Скорее, я относился к ней так, как у Фрейда молодые мужчины относятся к своим отцам. У Фрейда они всегда убивают отцов. Они должны убить отцов. Каждый раз, когда моя мать слишком уж докучала мне этими мечтами, я, несомненно, обращался с ней так, что это уже граничило с уничтожением. Это был не только отказ подчиняться: я по-настоящему сопротивлялся ей и сопротивлялся весьма энергично. Я действительно пытался заставить ее замолчать.
—Знакома ли Вам секс- и психокоммуна Отто Мюля[5], «ААО»?
—Да.
—У Вас были с ней контакты?
—Контактов не было, но я прочел все, что можно было прочесть. Мюль несколько раз спрашивал меня, не хочу ли я поучаствовать. Я по разным причинам, в конце концов, отказал ему, потому что не считаю это правильным путем.
—В ритуал инициации в коммуне Мюля входит «убийство матери»: нужно, погрузиться в самого себя, переживая, возможно, таким образом свое второе рождение. И тогда раздается клич руководителя: «Убей свою мать».
—Да, в том-то и дело, что всегда есть руководитель. Это как раз то, что в психоанализе меня, с одной стороны, привлекает, а с другой стороны—отпугивает. Потому что руководитель—это фигура, которую тоже нужно понять. Поэтому в качестве аналитика мне хотелось иметь женщину, потому что с женщиной у меня не было бы тех проблем, которые есть с мужчиной. Возможно, это звучит шовинистически, но это так.
—А какие проблемы были бы у Вас с мужчиной?
—Я бы всегда сопротивлялся направляющему и руководящему началу в нем. И всему тому, что он пытался бы мне объяснить, каким бы правильным и благоразумным это не было—просто потому, что это исходит от человека, которому я открылся, и который пытается сделать из меня ребенка, поставить меня на место. Такого человека я бы не стал слушаться. И с группой вряд ли бы что получилось. Группа, я в этом твердо убежден, довольно быстро сделала бы меня своим вождем.
—Да, Вы уже пережили это со своей коммуной «Антитеатра».
—Я уже пережил это пару раз. Имея некоторый опыт, я обращался к группам с предупреждением, что непременно буду отклонять любое предложение о своем руководстве. Но это не срабатывало, потому что в какой-то момент мне все равно приходилось брать на себя эту роль, иначе вся работа остановится.
«Все благоразумное меня не интересует»
—Люди, которые Вас покинули, например, из «Антитеатра», говорили об этом совершенно иначе.
—Да, они рассказывают, что я якобы попытался взять руководство на себя. Я убежден, что, скорее, люди ищут себе вождя, чем кто-то ищет себе свой народ, подобно Моисею. При том воспитании, которое большинство людей получило в нашей стране, их тоска по вождю определенно намного больше, чем моя по роли вождя.
—Фильм «Предостережение перед святой шлюхой»** ознаменовал как бы конец «Антитеатра». Почему распался «Антитеатр»?
—Это было далеко не так. Группа сложилась во время съемок «Уайти», и тогда же она поняла, что никогда не была группой.
—В «Святой шлюхе» есть сцена, когда режиссер лежит на земле, размахивая кулаками и крича: «Вы все только высасываете меня!» Это было то чувство, которое мучило Вас во времена «Антитеатра»?
—Это было взаимное чувство, так как другие полагали, что это я высосал их, а я считал, что это они высосали меня. Когда заканчивается период, во время которого ты работал до потери сознания, и теперь наступает момент, когда ты пытаешься как-то осмыслить это, тогда у каждого возникает чувство, что он отдал слишком много. В данном случае дело было так: у некоторых появилось чувство, что я был единственным, кто снял сливки, присвоив себе, в конечном счете, весь успех. Я, в свою очередь, упрекал их в том, что они просто своим присутствием заставляли меня делать так много. Когда ты видишь, что они сидят, ничего не делая, тебе ничего не остается, как самому чем-то заняться, что-то предпринять. Они вынудили меня сделать десять фильмов в год. До определенной степени они довели меня до истощения, до физического и психического истощения, так что я могу сказать, что это они высосали меня. В конечном счете, в «Святой шлюхе» была предпринята попытка сделать фильм о том, почему группы не могут функционировать; это относится даже к людям, которые хотят этого и пространством которых является группа, но совместное проживание и общая работа не удаются. Я всегда надеялся, что это будет фильм, исходящий из совершенно конкретного опыта, который приобрели мы и который приобрел я; надеялся, что он, в конце концов, станет фильмом, рассказывающим о динамике групп.
—По окончании эпохи «Антитеатра» Вы продолжали делать фильмы.
—Прошло девять месяцев, прежде чем я сделал первый фильм после этих десяти. Отдельные члены этой так называемой группы стали гораздо лучше понимать свое отношение друг к другу и ко мне. Я стал намного лучше понимать свое отношение к другим. Да и работа стала совсем другой. Из-за того, что я не снимал с одними и теми же людьми, я уже был не так одержим работой. И решения, с кем мне работать, стали теперь намного свободнее (с моей точки зрения).
—Складывается впечатление, что в обоих фильмах, тематика которых, на первый взгляд, политическая,—а именно в «Вознесении матушки Кюстерс» и в «Третьем поколение»—вы хотели сделать комедии о политических проблемах. Рассматриваете ли Вы оба фильма как комедии?
—Да, это комедии. Я полагаю, что любое объединение в момент своего формирования и становления выглядит по-детски—политическая ли это партия или что-то другое; только позднее, когда оно вынуждено само себя поддерживать (потому что оно уже есть и потому что оно некоторым людям подходит), это становится опасным и вредным для любой утопии. Поэтому обо всем, что я считаю политикой, я буду делать, пожалуй, только комедии.
—Это означает, что Вы никогда не признаете, что утопию можно осуществить через приводной ремень политики.
—Нет. Утопия возможна только тогда, когда она возникает в результате потребности и фантазии многих. До сих пор она всегда формулировалась и воплощалась одиночками. Нужно, чтобы стремление к фантазии получило такое широкое распространение, чтобы действительно стала возможной «жизнь в свободе» (формулируя это нашими словами). Если представления об утопическом сообществе сформулировать тем языком, который мы сегодня имеем, то в лучшем случае это будет опять нечто благоразумное—но ничего нового или сумасшедшего (в положительном смысле).
—Но абсурдность в фильме «Третье поколение» заключается именно в том, что этим акционистским группам чужда всякая мысль об утопии.
—Именно поэтому фильм и является комедией—потому что они ведут себя как политики. Они, собственно говоря, работают на существующий порядок, для того, чтобы укрепить его, сделать более окончательным. И я, естественно, надеюсь на то, что зритель сквозь смех ощутит своего рода ужас. Потому что, по существу, в этом нет ничего смешного. Но я не думаю, что все серьезные возможности, в конечном счете, опять приведут только к чему-то благоразумному—к благоразумной противоположности. Впрочем, меня это не интересует. Все благоразумное меня не интересует.
—Так же мало, как политика?
—Я нахожу политику невероятно смешной и детской, несмотря на то, что политика часто использует против людей весьма жестокие и ужасные механизмы власти. Я не могу понять, как может придти в голову мысль стать политиком.
—Но Вы же согласны с тем, что общество должно иметь определенные правила, или нет?
—Несмотря на всю политику, заботившуюся о порядке, имели место самые ужасные массовые расправы. Не знаю, могли бы произойти такие вещи, как вторая мировая война или Тридцатилетняя война, со всей их жестокостью, при анархическом обществе (формулируя это упрощенно). При анархизме мировая война была бы невозможна, потому что люди были бы больше заняты своим собственным существованием. Как раз в том масс-медийном обществе, в котором мы живем, у нас возникает чувство, будто жизнь происходит где-то в другом месте. И печально, что телевидение, с помощью которого можно было бы достичь многого, используется, в конечном счете, не позитивно, а больше, пожалуй, как средство подавления, убивающее фантазию.
—В «Александерплац»[6] Вы сознательно попытались через телевидение разбудить в людях фантазию, т.е. чувство счастья. Результатом же этого было то, что на Вас обрушились угрозы убийства, брань и полное неприятие.
—Перед лицом всего этого я действительно в полной растерянности, потому что я нахожу «Александерплац», за исключением четырнадцатой серии (или, как ее теперь называют, «Эпилога»), невероятно красивым, захватывающим и просветляющим фильмом; собственно, я никак не склонен к тому, чтобы пробуждать агрессию по отношению к самому себе. Я всегда так думал об «Александерплац». Я ожидал, что будут споры, я даже надеялся на них. Но по тому, как это выглядит в настоящее время, агрессия направлена против самого дела. А этого я не хотел. В «Сатанинском зелье» я вполне сознательно добивался, чтобы люди задумались об агрессии против художественного произведения, о месте художника в обществе. Но это с самого начала было рассчитано на ограниченное число зрителей и рассказано другим кинематографическим языком, чем «Александерплац».
В настоящий момент я могу только сказать, что я в полном недоумении.
—В «Александерплац» Мице, любимая Биберкопфа, в одной из сцен стоит на уличном перекрестке, и одна из улиц называется «Мозесштрассе», а другая «Жан-Польштрассе».Что это, намек на будущие фильмы с помощью уличного столба?
—Что значит «намек с помощью уличного столба»? Люди, изготавливающие надписи с названиями улиц, спрашивают меня: «Как называется эта улица?» В романе нет точного указания, как называется улица, где героиня занимается проституцией. И поэтому я называю ее или Фонтанештрассе, потому что я люблю Фонтане[7], или я называю ее Жан-Польштрассе, потому что я люблю Жан-Поля[8]. Возможно, я сделаю фильм, который будет иметь какое-то отношение к Жан-Полю. Но вначале я так называю улицу, потому что я люблю Жан-Поля. А Мозесштрассе я называю так, потому что нахожу интересным человека под именем Мозес (Моисей—Перев). Так что совсем не обязательно, чтобы каждый указатель означал будущий фильм.
—Улицы Федраштрассе в «Александерплац» не было. Вы пишете драму под названием «Федра». Это история одного молодого человека по имени Ипполит, который не хочет принести жертву Афродите...
—У меня его зовут Райнер.
—...которого безнадежно любит его мачеха, и который любовь мачехи...
—Это не так. Вы рассказываете версию Федры, незаконченной античной пьесы.
—А как у Вас будет выглядеть Федра?
—У меня это так. Есть отец и сын, которые испытывают большие трудности в общении друг с другом, им трудно быть ласковыми друг с другом, любить друг друга и все такое. Они пытаются вести жизнь втроем с женщиной, которая знакомится с отцом и выходит за него замуж, с которой, независимо от отца, знакомится сын и в которую он влюбляется. И этот брак втроем терпит крах из-за того, что женщина (в данном случае это Федра) не может перенести, что ни один из мужчин не любит ее больше, чем другой, что они не хотят бороться за нее. Один конец «Федры»—женщина уходит, другой конец—отец и сын любят друг друга.
—Является ли это частью утопии Фассбиндера, у которого сложные отношения с отцом и который пишет тут, так сказать, стариковское произведение?
—Думаю, оно является возможностью рассказать что-то положительное (или что-то возможное) об отношениях между отцом и сыном, да.
«У меня всегда какое-то недоверие к вождям, которые уж слишком милы и любезны»
—«Моисей и монотеизм»—это книга Фрейда, которую Вы как-то тоже хотели экранизировать...
—...которую я буду экранизировать! О «хотении» в отношении меня не может быть и речи. Я хочу и буду это когда-нибудь делать.
—Моисей, пишет Фрейд, был в действительности знатным египтянином, который «становится во главе кучки пришедших издалека, отсталых в культурном отношении чужаков», евреев, дает им новые законы и заставляет их служить новой религии, монотеизму.
—Моисей искал себе свой народ, верно.
—Теперь мы снова вплотную подошли к теме «Антитеатр», вождь. Моисей как Фассбиндер?
—В «Антитеатр» я пришел на роль. Я не искал себе группу, я вошел в группу.
—Там уже были какие-то структуры власти или же они образовались позднее?
—Были весьма сильные структуры власти. Тогда группа называлась «Акцион-театр». У Курта Рааба9, например, была совершенно удивительная властная позиция, которую он пытался сохранить самым странным образом. Он был единственным, кто до этого работал—реквизитором на телевидении. Он был также единственным, у кого были деньги—больше денег, чем у других (которые получали вечером свои пять марок). На свои деньги Рааб не ежедневно, но с определенной регулярностью закупал в закусочной ребрышки (или что-то в этом роде) и распределял это в зависимости от симпатии среди определенных людей в группе. И тогда они могли есть вместе с ним, а другие—нет. С самого начала я пытался с этим бороться. И я действительно добился того, что руководитель театра Урсула Штрец[10] запретила ему это делать. И таким образом я достаточно рано лишил его одной из возможностей ощущать свою самоценность.
—Значит, в группе проходили значительные бои?
—Рааб со всей ненавистью и неприятием, которые он испытывал по отношению к такой фигуре, как я, набросился на меня. Когда я пришел в «Акцион-театр», главой его был Пеер Рабен[11], мягкий человек—один из тех, по которому незаметно, что он руководитель группы. Когда такую функцию выполняю я—по каким бы то ни было причинам (то ли я того захотел, то ли другие сделали меня таковым)—это всегда заметно. Я не люблю руководителей, которые очень милы и любезны и так скрывают свою функцию руководителя, что ее почти не замечаешь. Я считаю это опасным. Я считаю: лучше, если на руководителя можно также нападать. Когда я затем делал свою первую постановку, они вначале сопротивлялись. В какой-то момент я вошел в эту роль руководителя, и они тут же начали демонтировать эту роль. И потом было все, что дети делают со своими родителями: с одной стороны, они очень любят их, с другой стороны, они должны их уничтожить. Власть сохраняют, когда ее используют.
—Как Вы использовали свою власть?
—Я попытался не брать на себя многие функции, которые мне поручали. Они задавали мне различные вопросы—вплоть до такого, скажем: переезжать ли мне на квартиру или оставаться жить здесь? И в один прекрасный день я сказал: «Всё, что на сцене, должно быть в порядке, а всё остальное мне до лампочки».
—Какого характера были конфликты?
—Человек Урсулы Штрец Хорст Зенляйн, вместе с ней основавший театр и находившийся в момент моего прихода в театр в больнице (потому что он во время автомобильной аварии повредил себе позвоночник), вернулся и попытался выбросить меня из театра. Он запретил мне приходить в театр. Другие, однако, не пошли у него на поводу, после чего на следующую ночь он полностью разгромил театр. Не осталось ни одного стула, сцена, которую он сам построил, была полностью сломана—все было разбито вдребезги. Другие упрекали своих девушек, которые играли у нас, в том, что я произвел на них более сильное впечатление, чем они. Как будто я хотел забрать у них их девушек—ничего подобного! Ну, вообще ничего подобного!
—Вы жили тогда вместе с одной из девушек? Ведь Вы знали Ирм Херманн[12] уже до того...
—...с нею я жил еще в то время вместе, да. Потом к нам переехал Пеер Рабен, а также и Урсула Штрец. И некоторое время мы жили вчетвером в однокомнатной квартире. Это впечатление на всю жизнь—вчетвером в такой квартире.
—Ирм Херманн поразительно похожа на Вашу мать. Осознавали ли Вы это, когда сошлись с ней?
—Нет, я и сегодня так не считаю. Я бы, пожалуй, согласился, что смесь из Ирм Херманн и Ханны Шигуллы соответствует моей матери, но одна Ирм Херманн, совершенно очевидно, нет; по крайней мере, для меня она никогда не была такой... И одна Ханна Шигулла тоже не была, хотя она так думает.
—Может быть, вместе они были ею. Но странно, что обе никогда не играли роли матерей в Ваших фильмах.
—Я никогда не относился к матери как к матери. У нас были чудесные приятельские отношения, дружеские отношения. И когда вдруг потом она захотела сделать из меня сына, я отчаянно сопротивлялся.
—Кто навел Вас на мысль заняться кино?
—Я сам. Перед тем, как придти в «Акцион-театр», я уже сделал свои два первых короткометражных фильма. Кино меня интересовало больше. Но с деньгами было трудно. Чтобы вообще чем-то заняться, я пришел в театр, и нашел это крайне интересным. Но для меня это всегда было только переходным периодом перед тем, как начать снимать кино.
—Откуда взялись деньги для первых фильмов?
—На первые фильмы у нас не было никаких денег. Во время первого фильма была г-жа Реццори из Мюнхена, наследница Боша, о которой нам было известно, что она дает деньги на съемки фильмов. В фильме «Рио дас Мортес» она играет женщину, которая дает деньги двум героям, которые хотят поехать в Перу, чтобы отыскать сокровище. К ней мы и направились, Раабен и я. Я объяснил ей, какой фильм я хочу сделать. Она тоже нашла это весьма интересным и дала нам 10 000 марок. На 10 000 марок мы закупили пленку и потом, на Троицу, начали снимать. Потом мы отправили пленку на кинокопировальную фабрику, и тут выяснилось, что негатив испорчен. О страховании мы понятия не имели, и так оказались в полном дерьме. Тогда мы еще раз пошли к этой женщине, и она еще раз дала нам 5 000 марок. На эти 5 000 марок мы тогда действительно и сделали фильм.
—Это была «Любовь холоднее смерти»?
—Да.
«У меня всегда было взаимопонимание с “котами”»
—Действие уже второго короткометражного фильма происходит в криминализированной среде. Восхищение этой средой подпольного мира сохранилось и в последующих фильмах. Не возвращаются ли типажи из Вашего детства на Зендлингерштрассе, этот мир проституток напротив?
—Сегодня я бы интерпретировал это точно так же. Конечно, люди с Зендлингерштрассе произвели на меня более сильное впечатление, чем я это мог бы сформулировать, потому что, помимо этих детских воспоминаний, я действительно ничего больше не знаю. Я знаю, что они хорошо относились ко мне. Дамочки с Зендлингерштрассе как-то очень любили этого ребенка. В «Александерплац» мне удалось это показать. В первых фильмах всегда были герои, зарабатывавшие себе деньги на жизнь таким способом.
В фильме «Катцельмахер», насколько мне помнится, есть человек, который пытается послать свою подругу на панель. Для меня проституция была намного нормальнее, чем для других людей. Только много времени спустя я заметил, что для многих это экзотическая среда. Я не находил это экзотичным, скорее, параллельным к буржуазной жизни.
—Проституцию можно рассматривать как метафору одной из разновидностей эксплуатации, скрытно существующей в буржуазной жизни.
—Скрытно существующей, да. У меня были весьма дружеские отношения с настоящими сутенерами. С «котами» у меня всегда было хорошее взаимопонимание. Это настоящие парни. Это были люди, с которыми у меня меньше всего было проблем.
—В так называемых маргинальных группах часто проявляется во всей полноте то, что в буржуазном обществе тщательно скрывается.
—Ну нет, не то чтобы это проявлялось во всей полноте. Это то же самое буржуазное общество, только наоборот, и оно мне симпатично. У них есть на пару возможностей больше быстро и напрямую освобождаться от своей агрессии, чем это обычно бывает в буржуазной семье: я рассматриваю это как преимущество. Тот, кто при случае бьет прямо, а не ждет возможности в один прекрасный день, безопасно для себя, прикончить своего противника, мне намного приятнее.
—Были ли какие-то фильмы, которые служили для Вас образцом для подражания во время съемок Ваших первых фильмов?
—Определенно, было много голливудских фильмов, которые были где-то у меня в голове. Но прямым образцом для подражания для «Любви сильнее смерти» был фильм Годара «Жить своей жизнью». Этот фильм уже только одним своим существованием дал мне сравнительно много сил. Ведь Годар тоже говорит не что другое, как: «Если уж эту Нана ничто больше не удовлетворяет, тогда пусть она займется проституцией». К сожалению, бедную женщину в конце фильма убивают. Но, по крайней мере, когда она была проституткой, она чувствовала себя более удовлетворенной и довольной, чем когда она была замужем за учителем. Уже в самой начальной сцене ты довольно точно понимаешь, какую жизнь она вела.
Когда она начинает заниматься проституцией, она вдруг обнаруживает, что она становится важной для определенных людей, чего у нее до сих пор не было. Там есть такая сцена: она идет с одним типом в гостиницу. Тот говорит: «У тебя нет еще одной девушки?» Она приводит другую. И тот начинает заниматься этой другой. И тогда она говорит: «Счастье не всегда веселое». Ей становится ясно, что, возможно, это не самое правильное, но во всяком случае лучше, чем брак с учителем, от которого у нее ребенок. Фильм дал мне много сил. Я думаю, что он имел много общего с моими идеями.
—Тогда же ведь не было ничего необычного в том, что молодые немецкие кинорежиссеры обращались к гангстерской тематике: первый фильм Клауса Лемке «48 часов до Акапулько»[13] или «Детективы» Рудольфа Томе[14]...
—Да, конечно, но они больше копировали американские фильмы. Я же, когда снимал «Любовь сильнее смерти» или «Боги чумы», не хотел делать американский гангстерский фильм. Уже тогда я попытался взять из гангстерского фильма то, что было важно для меня и моих интересов.
«Я всегда хотел сыграть Рейнгольда»
—Психологи утверждают, что гомосексуальность не является случайностью (как, например, светлые волосы, голубые глаза), а имеет отношение к личности как таковой; она затрагивает суть личности и является чем-то эмоциональным, от чего зависит все остальное.
—Чем-то эмоциональным, от чего зависит все остальное? Как это понимать?
—Имеется в виду, что это не исчерпывается так называемым удовлетворением инстинкта. Речь идет о таком стечении обстоятельств, которое приводит к определенному виду самореализации...
—Говорят, что самоутверждение гомосексуалистам гораздо необходимее, чем другим.
—Это социальная сторона. Но важно и так называемое самообнаружение личности, когда находят себя самого через отражение в другом мужчине—то есть в своем же собственном поле.
—Ничего другого, по-моему, и не происходит между мужчинами и женщинами.
—Отражение не носит прямого характера.
—Я не вижу в этом такую уж безумную разницу. Я предпочитал иметь дело с людьми, которые были абсолютно иными, чем я, именно сознательно другими (и в то же время—такими же самыми, если смотреть на это диалектически). Я никогда не пытался завязать дружбу с человеком, будь то мужчина или женщина, который был бы хоть наполовину таким, как я.
—Значит, никакой встречи с самим собой через друга?
—Может быть, это можно сформулировать так: я делал из друзей своих alter ego.
Но это то, о чем я здесь и за такое короткое время рассказать не могу—лет через десять, может быть.
—Однако часто Ваши герои являются Вашим alter ego, например, в «Богах чумы» Харри Баэра[15] зовут Францем Биберкопфом.
—Да, конечно, в фильмах—разумеется, ясное дело. Если Вы меня о фильмах спрашиваете, то я должен был бы ответить по-другому.
—А что, одно от другого отделить нельзя?
—Нет, почему же, можно, потому что в фильмах я подхожу к своей личности иначе, чем я делаю это в жизни.
—Не могли ли бы Вы это немного пояснить?
—Если утверждают, что в фильме «Боги чумы» Харри Баэр раскрывает какой-то уголок моей души или его герой раскрывает какой-то уголок моей души, это, конечно, правильно, но в этом случае все происходит более обдуманно и продуманно, чем когда я сам завожу знакомство с другом. Тогда происходят вещи, которыми я не могу или не хочу управлять. В моих же фильмах мои герои ведут себя так, как я хочу чтобы они себя вели. Они не выходят из-под моей власти.
—В Ваших фильмах на человеческих отношениях лежит сильный отпечаток борьбы за власть...
—Да, это верно. В жизни же, в действительности, так не было. В конечном счете, каждое отношение развивается в направлении такой борьбы за власть. Но происходило это всегда в то время, когда с отношением уже было все закончено. Может, просто это бывает потому, что долго не хотят себе признаваться, что уже с самой первой минуты отношение идет к своему концу.
—Персонажи, которые в фильмах изображают Ваши alter ego, очень часто стройные красивые люди.
—Да? Не знаю...
—Наиболее это заметно в фильме «Предостережение перед святой шлюхой», в котором Лу Кастель[16] играет режиссера, т.е. создает Ваш образ.
—Вначале его должен был играть Марио Адорф[17]. Он очень сильный человек; на первый взгляд, он не производит впечатление чувствительного человека. И только когда у него ничего не получилось, мы взяли Лу Кастеля, который мне очень нравился. Так что он не был первым, кого я отобрал на эту роль.
—Можно ли утверждать, что в «Александерплац» существуют три проекции Фассбиндера: Биберкопф, Рейнгольд и Мице?
—Да, это можно с уверенностью утверждать.
—Мы обратили внимание, что в Биберкопфе проявились многие Ваши черты.
—Я всегда хотел играть Рейнгольда.
—Да, это еще одна сторона: Биберкопф является, так сказать, аспектом Иова, а Рейнгольд—скажем, воплощением чисто мужского начала. Мице—это своего рода прорастающий цветок. Все эти три качества наличествуют в Фассбиндере?
—Конечно, но как триединство. Если рассматривать их вместе, то получается нечто, что, наверняка имеет достаточно большое отношение ко мне. Это ясно. Один Биберкопф мною определенно не является, один Рейнгольд тоже не является, и одна Мице определенно не была бы мною. Должны быть все трое. У всех троих вместе есть нечто, из чего вытекает моя возможность выживать.
—Не могли бы Вы это расшифровать?
—С одной стороны, это так называемый Биберкопф-терпеливец, который не по своей воле познает очень много зла в этом мире, но думает, что все будет хорошо. С другой стороны, Рейнгольд—человек, для которого мир является таким местом, где можно выжить, только если (как бы это сказать, чтобы это не выглядело доносом на него, потому что я этого не хочу)—если ты приспособишься к самым отвратительным возможностям. Мице—это та, которая всё любит. Я считаю, что у Мице есть талант любить всех и каждого.
—И всё находить прекрасным?
—Да, и всё находить прекрасным.
—Кстати, к понятию о красоте. Раньше «красиво» было Вашим любимым словом. Для психологов на пути гомосексуального самопознания есть пороговая ситуация, когда, оглядываясь назад, смотрят на детство и связь с матерью, как на рай. Это кажется чем-то невообразимо прекрасным, и психология выводит из этого, что эстетизм, слово «красота» приобретает поэтому большое значение внутри гомосексуального космоса.
—Возможно, что это так. Но я бы определил это только как нечто социальное. Гомосексуалисты должны в этом мире делать намного больше, чтобы быть равными другим. Женщина тоже должны делать намного больше, чтобы быть равноценной мужчине.
—Но, очевидно, эстетическое чувство у гомосексуалистов носит более выраженный характер.
—Это происходит оттого, что через эстетизацию мира они создают красоту, благодаря которой чувствуют себя равноправными в этом мире.
—С другой стороны, на пути к самореализации (а путь этот—очень трудный) ощущаешь страх раствориться, из-за чего может развиться склонность к ипохондрии. Эта парочка—эстетизация и ипохондрия—является для психологов опознавательным знаком гомосексуальности. В Ваших фильмах бросается в глаза, что большую роль в них играют психосоматические болезни: Али из фильма «Страх съесть душа» получает язву желудка, в фильме «Восемь часов не день» мастер получает инфаркт...
—Да, от волнения он получает инфаркт.
—Вы как-то рассказывали, что у Вас самого были трудности с сердцем...
—Ипохондрия—странное слово. «Психосоматически» звучит уже лучше. Мнения расходятся, могут ли психосоматические боли стать настоящими (т.е. воображаемые страдания стать настоящими). Есть и то, и другое.
—А Вы к чему склоняетесь?
—Идея, что тело воображает себе страдание, потому что разум не в состоянии с чем-то справиться, кажется мне логичной. Когда у меня были ужасные боли в сердце, мне было достаточно услышать от врача: Ваше серд-це здорово. На следующий день оно у меня уже больше не болело.
—Вам хотелось бы иметь другое тело?
—Только иногда. Тогда, например, мне очень хотелось иметь другое. Когда ты думаешь, что смертельно болен, очень хочется выскочить из своей шкуры. А что касается времени, когда это случилось, то это был тот момент, когда окончательно решилось, что я буду (или я должен) всю свою жизнь продолжать делать фильмы. Я добился того, чего я хотел добиться. И после этого заболел.
—А не впадаешь ли при этом в отчаяние от того, что ты во власти тела, которое ведет себя иначе, чем тебе того бы хотелось?
—Нет, об этом я больше не думал. Когда у меня боли, или я чувствую себя плохо, я не в состоянии думать. Есть философы, которые страдали всю свою жизнь и написали потрясающие вещи. Я этим безумно восхищаюсь. А я тогда просто не могу. Тогда все застопорено. Тогда я могу сконцентрироваться только на моей зубной боли, сердечной боли, на боли в ушах. Я недоступен ни для чего благоразумного.
—После какого фильма была эта история с сердцем?
—После фильма «Восемь часов—не день». Тут все и началось.
—Если бы Вы в таком состоянии стояли на Гросгесселогерском мосту, Вы бы прыгнули с него?
—Я часто думал об этом. Возможность покончить с собой существует в моем сознании в качестве реальной возможности. Я знаю, что она существует, и она имеет отношение ко мне. Но вряд ли я бы сделал это в тот момент, когда у меня боли. Когда у меня боли, то мне хочется только одного—чтобы они прекратились. Идея самоубийства возникает у меня в другое время, без всякой причины. Это не изменилось с того времени, когда у меня появилось заболевание, называемое маниакально-депрессивным. Меня часто вдруг охватывает печаль, как это смешно ни звучит, и я совершенно не знаю, почему.
Я сижу перед окном, и меня охватывает такая печаль, что я вообще больше не понимаю, зачем я на этом свете. И бывает наоборот: я сижу за столом с людьми и развлекаю всех, хотя никто меня специально к этому не побуждает; просто потому, что мне хочется рассказывать истории. И тогда я весел—сам не знаю, почему.
<…>
«С самой первой репитиции Ханна была моей звездой»
—Между «Эффи Брист» и «Замужеством Марии Браун» Вы больше не работали с Ханной Шигулой. Тогда, в 1973 году, она опубликовала интересную прощальную статью, в которой заявила, что она больше не хочет соответствовать тому образу, который Вы ей навязали.
—Исторически это было немного иначе, чем это изобразила Ханна. Я никогда не выступал против этой статьи. Решение больше вместе не работать было взаимным. У Ханны это было во многом связано с тем, что тогда Маргит Карстенсен[21] смогла меня захватить—по крайней мере, настолько же, как и она.
—Как Ханна Шигулла пришла в Вашу группу?
—Ханна училась вместе со мной в актерском училище. Она изучала германистику в университете и одновременно посещала актерское училище, а я работал в архиве газеты «Зюддойче цайтунг» за 2,15 марки в час. Потом я пришел в этот Акцион-театр. Не помню точно, но, кажется, кто-то не смог играть Антигону. Тогда я спросил Ханну: «Хочешь это сыграть?» И тогда она это сыграла. А когда я потом осуществил свою первую собственную постановку, а именно, «Преступники» Фердинанда Брукнера, то уже с первой репетиции она была моей звездой. Иначе я это назвать не могу.
—Так как она не склонялась к тому, чтобы подчиняться?
—Такой проблемы между нами никогда не существовало. В работе она подчинялась безоговорочно, потому что она, пожалуй, более внимательно, чем другие актеры, прислушивалась к режиссерским указаниям, и с самого начала больше других понимала, что такое режиссура. В частной жизни мы избегали любых контактов. Это наверняка было решением, хотя и бессознательным, обеих сторон, потому что нам обоим было ясно, что мы не сможем больше работать друг с другом, если будем иметь какие-то личные отношения.
—А что она олицетворяла для Вас?
—Сначала вообще ничего. Вопрос, что она для меня олицетворяла—это тот вопрос, который она в один прекрасный день, когда появилась Карстенсен, поставила себе вместе с Ирм Херманн. Они пришли к мысли, что они обе вместе являются как бы образом моей матери; они вообще не понимали, что тут делать Карстенсен. И к этому мнению (что мне лучше работать с Ханной, чем почти со всеми другими) я до определенной степени присоединился. Я всегда мог точно оценить, в ком могу лучше увидеть свою мать—в Ханне или, позднее, в Карстенсен. Даже если Ханна злилась, то это проявлялось более позитивно, чем у Ирм. Если Ирм делала что-то доброе, нужно было очень напрячься, чтобы понять это. А если она злилась, то в такой форме, которую можно было бы назвать потрясающей. В том числе и в «Торговце четырех времен года», хотя меня многие обвиняли в том, что я сделал слишком жестокий конец. Самая сильная сторона этой женщины заключалась в том, что вместо того, чтобы отказаться от жизни в подобной ситуации, уйти в себя, сказать: «Я хочу страдать», она говорит: «Я хочу жить дальше». Я всегда воспринимал это очень положительно.
—А как снова началось сотрудничество с Ханной Шигуллой? Это от Вас исходило?
—Мы оба, Ханна Шигулла и я, были того мнения, что время нашей совместной работы было достаточно долгим, чтобы продолжать еще что-то создавать вместе. Мы уже рассказали все, что интересовало нас друг в друге. А теперь, спустя несколько лет, мы оба пришли к мнению, что теперь это было вновь возможно, потому что за это время мы оба обогатились новым опытом—как в жизни, так и в работе, который, возможно, позволит нам обоим снова придумать что-нибудь новенькое. И тогда мы сделали «Замужество Марии Браун», «Александерплац» и «Лили Марлен» и сказали, что теперь мы снова сделаем перерыв.
—Может, не хватает сценариев, достаточно хороших для Ханны?
—Я полагаю (и думаю, что это мнение и Ханны), что теперь, после четырех фильмов, мы достаточно использовали тот опыт, который накопили за четыре года. Пока этого хватит... Ханна, я должен об этом сказать, не та актриса, которую можно использовать на вторых ролях. И опять же не очень хорошо, когда она постоянно находится в распоряжении режиссера. Как в «Лили Марлен», так и в «Марии Браун» ее потребности (как она хотела бы, чтобы ее снимали) и моя потребность (что я бы хотел рассказать через нее) совпали. Я не хочу насиловать себя и снимать теперь постоянно фильмы, где есть роли, отвечающие этим предпосылкам.
—Боитесь впасть в рутину на высоком уровне? После Вашего первого фильма «Эффи Брист», имевшего большой зрительских успех, последовал фильм «Кулачное право свободы». Не хотели ли Вы в нем спуститься...
—...да, да, это верно. После «Эффи Брист» я бы мог сделать не знаю уж сколько литературных экранизаций. И я бы легко получил под это любые деньги. Я сопротивлялся тому, чтобы делать фильмы, которые не хотел делать; я делал фильмы экстремально противоположные. Последовала бурная реакция—возможно, потому, что зритель, избалованный «Эффи Брист» и ее режиссером, был слишком ошарашен «Кулачным правом свободы». Я думаю, что такого рода рутина не должна возникать.
—Можно ли причислять к этой рутине фассбиндеровский маньеризм? Например, многочисленные зеркала, съемки через стекло?
—Это уже в прошлом. Но было время, когда я очень много работал с зеркалами.
—И какая у них была функция?
—У них были самые различные функции. В некоторых фильмах я использовал зеркала, чтобы с их помощью создать дистанцию, скажем, по отношению к персонажу, с которым ты отождествлял себя еще две, три минуты тому назад. Благодаря отражению отождествление вдруг пропадает. Когда видишь самого себя, тогда нельзя себя больше отождествлять.
—А не было ли у зеркал также и функции комментария?
—Это правильно. Это одна из возможностей. Другая возможность—это создание с помощью зеркал эффекта отчуждения. Я пытался во многих фильмах показать героев так, как они видят самих себя в зеркале; я хотел создать дистанцию между возможностью зрителя отождествлять себя—и тем, как я средствами кино опять создаю этот необходимый разрыв.
—В «Марте» с помощью зеркал создается впечатление, что герои вначале довольно продолжительное время видят не самих себя, а только свое отражение в зеркале, отчуждаясь тем самым от самих себя. Мы не утрируем в нашей интерпретации?
—Нет, вы не утрируете. Дело в том, что речь идет о персонажах, которые оба почти не обладают идентичностью, являясь экстремальными продуктами воспитания. Это уже первоначально было задумано в сценарии и в заостренной форме рассказано в фильме. Совершенно очевидно, что об отношениях между партнерами по браку рассказывается в заостренной форме, но я нахожу при этом достаточно возможностей для дистанцирования.
—В «Отчаянии» такого рода эстетика прослеживается наиболее ощутимо.
—Хотя там нет почти ни одного зеркала.
—Зато там есть стеклянные стены.
—Да, там есть много стеклянных стен, отполированных или разрисованных. Речь идет о человеке, полагающем, что он находится на пути обретения своей идентичности, считающем, что он может видеть себя насквозь. Для меня эти стеклянные стены, которые прозрачны только с одной стороны, являются символом того, что есть возможность рассказать историю на другом уровне. «Отчаяние»—тоже одна из таких историй, которую я прочел в двадцать лет (или что-то около этого), и которая захватила меня целиком.
—«Отчаяние»—это первый фильм, снятый в павильоне, для которого строились декорации?
—Нет, я и до этого снимал в павильоне. Но это было первый раз, когда я построил драматургическое помещение. Правда, в итоге мне не удалось сделать с этим помещением то, что я хотел. Я отталкивался при этом от заключительных кадров фильма Хичкока «Марни». Когда она вдруг узнает, как появилась ее болезнь, тогда пространство сжимается и отчуждается в нормальное помещение. Но это возможно только тогда, когда ты строишь одну и ту же декорацию дважды. В «Отчаянии» это было невозможно. К сожалению. Поэтому мы были вынуждены многое из того, о чем мы хотели рассказать с помощью пространства, делать с помощью камеры. Это было настоящим гандикапом, так что я просто не могу сказать, каким был бы фильм, если бы я его снял так, как мне того хотелось. И второе: это то, что прокатчики практически вынудили меня сократить фильм до определенной длины. То, что я уступил им, было моей ошибкой. Но с фильмами такое бывает. Когда фильм имеет правильную длину, он может быть много интереснее, чем когда его корнают до нужных размеров.
—У Вас есть объяснение, почему «Отчаяние» имело такой незначительный успех?
—Причину я вижу в том, что это очень сложный фильм—фильм, который заставляет тебя обращаться к совершенно экстремальной стороне подсознания.
—И какая же это сторона?
—Это попытка предпочесть нормальной жизни состояние сумасшествия. Уже сама мысль быть поставленным перед этим выбором кажется странной; она, очевидно, нагнетает такой страх, что многие попытались избежать ее.
«Фюрер был для людей чем-то потрясающим, чем-то грандиозным»
—Вы—продукт послевоенного времени. Родились в 1946 году. Когда Вы начали заниматься немецким прошлым?
—От второго мужа моей матери, к которому я, собственно, относился всегда весьма критически, я узнал невероятно много о немецком прошлом. Мне стало ясно, что Третий рейх не был несчастным случаем в истории, к нему привело достаточно логичное развитие.
—С эстетической точки зрения весь театр ритуалов Третьего рейха приводит Вас в восхищение, не так ли?
—Да, да. Это есть в «Лили Марлен». Я пытался здесь объяснить, что определенные формальные возможности национал-социализма могут также и завораживать.
—Певица Вильки, прообраз Лили Марлен, показана в «Лили Марлен» как весьма и весьма очарованная этой эстетикой.
—Да, а именно—абсолютно. И я считаю, что у нее есть на это право, так как все это дает также шанс сделать карьеру. И в частной жизни для нее это было так же приятно. Я пытался показать это и в «Александерплац» на примере Биберкопфа—но и осознание порочности национал-социализма тоже. Точно так же это было и с Вильки, которая не знала, что происходит в стране. Мы просто закрывали глаза на то, что могли бы знать. И тогда остается эта фашизоидная эстетика, которая до определенной степени имеет свое очарование. Очарование прекращается, когда происходят невозможные вещи, от которых уже нельзя спрятаться. А она через это не прошла. Самым сильным мотивом для нее было то, что запретили ее песню—вот что является для нее самым трагическим моментом.
—Ей разрешают петь, но запрещают песню.
—Да, некоторое время песня была запрещена. И вот здесь-то у нее и зарождается подозрение в отношении всего.
—В «Лили Марлен» национал-социалистская Германия показана глазами женщины, которая хочет сделать карьеру. О социальных обстоятельствах она не задумывается.
—Об этом она действительно не задумывается, она делает карьеру. Когда ее спрашивают: «Зачем?», она отвечает: «Чтобы выжить», но это больше отговорка. Дважды, когда ее спрашивают, она отвечает: «Что я такого делаю? Я пою песню! Что вы хотите? В этом же нет ничего плохого!»
—А там, где она восстает против власть имущих...
—...она это делает из любви к своему другу. Он арестован. Она не совсем понимает, что она делает в Польше. На вопрос, слышала ли она о Треблинке, Майданеке, Освенциме, она только отвечает: «I beg your pardon»***. И если она действительно что-то слышала, то она, подобно многим другим, просто закрывала глаза и затыкала уши. Потом наступает момент, когда она уже больше не может, и тогда эта фашизоидная эстетика теряет свое очарование как для нее, так и для фильма, который проживает это вместе с ней.
—Чувствует ли она это восхищение также во время своей встречи с Гитлером?
—Фюрер для нее... ну, мы нашли для этого метафору с этим «pure light»****. Фюрер был для людей чем-то потрясающим, чем-то грандиозным.
—А Вы не боитесь, что Вам могут поставить в упрек это восхищение?
—Я не боюсь. Знаю, что меня будут в этом упрекать. Я знал это с самого начала. Но я всегда говорил, что тема интересует меня только тогда, когда я делаю что-то, что еще до сих пор не делал никто. Я хотел раскрыть суть Третьего рейха через эти, такие завораживающие, подробности его собственного самопоказа.
—«Лили Марлен» во многом напоминает последний фильм так почитаемого Вами голливудского режиссера Дугласа Сёрка «Имитация жизни»[22]. Что означают для Вас его фильмы и Ваша встреча с ним?
—Его фильмы рассказывают о людях, и в смысле драматургии речь идет о вещах, которые мне интересны. Встреча с Сёрком помогла мне избавиться от страха стать по тем или иным причинам банальным. Причем Сёрк совсем не такой, каким обычно представляют себе деятелей Голливуда. Он высокообразованный европеец и в высшей степени тонко чувствующий человек. У него есть все, о чем я бы мог сказать: «Такие фильмы, какие сделал он, хотел бы сделать и я»—хотя их драматургия лжива. Фильмы Сёрка пользовались огромным успехом у зрителей, успехом непосредственным и открытым. Только у Сёрка мне стало ясно, что можно вот так описывать истории, о которых люди в другом случае сказали бы, что они рассказаны лживо.
—Мужество к мелодраме.
—Абсолютно не так. Я бы сказал, что Сёрк придал мне мужества делать кассовые фильмы. До этого я думал, что, чтобы работать серьезно, нужно отойти от этой голливудской драматургии. Голливуд запрограммирован на определенные образцы, и вся драматургия голливудских фильмов казалась мне до того времени весьма глупой. Мои сомнения как полуобразованного европейца мешали мне рассказывать истории таким образом. Сёрк дал мне понять, что это возможно, и не важно, как ты относишься к его фильмам. Другие ориентируются, возможно, на Хичкока, а для меня решающей была встреча с Сёрком.
<…>
«Самое главное, что никто, кроме меня, не теряет на моих фильмах»
—В 1977 году Вы заявили, что уедете в Америку и будете делать фильмы там. Главной причиной был изменившийся климат в Германии.
—Я только сказал, что в Германии изменилась тенденция и что люди, в руках у которых власть, так ее и используют. Пару лет назад они бы этого не сделали, тогда еще была более мужественная внепарламентская (или какая-то там еще) оппозиция, которая сопротивлялась этому. Перемена в тенденции идет рука об руку с достаточно печальным оппортунизмом многих людей. Но эта перемена в тенденции произошла, климат в стране другой, чем он был пять лет тому назад.
—Но Вы продолжали работать здесь, Ваш последний фильм «Лили Марлен» Вы сняли на основе сценария, написанного Манфредом Пурцером. В качестве председателя комиссии по кинопроектам он во многом был виноват в том, что Вам отказали в деньгах на фильм «Мусор, город и смерть». Пурцер представил Вас тогда как разрушителя народной морали.
—Не говоря уже о том, что сегодня он все отрицает. Исторически это было так. Я прочитал сценарий (еще не зная, что это сценарий Пурцера) и увидел в нем возможность рассказать о том, о чем я, в конечном счете, и рассказал. Когда я узнал, что Пурцер, был, по крайней мере, одним из соавторов сценария, я, конечно, подумал: а не сказать ли мне, что я не смогу с ним работать. Я поговорил с несколькими людьми, в честность которых я верю. Я поговорил с шефом киностудии «Бавария—ателье» Рорбахом, который знает Пурцера. Он сказал, что Пурцер тоже только человек, у которого в силу определенных причин есть определенные проблемы. Рорбах посоветовал мне сделать фильм, если сценарий мне нравится. Я поговорил также с Александром Клюге, и тот сказал мне, что было бы абсолютным ребячеством выйти из проекта из-за Пурцера. С другой стороны, я получил от издательства право менять любую фразу диалога, любую сцену, все менять. Учитывая все это, я не стал бы называть это предательством своих идеалов.
—Но Ваш план уехать в Америку по-прежнему остается?
—Если после избрания Рейгана представить себе, что он строит Америку, о которой он часто говорил в своих речах, а именно—Америку, которая была бы очень похожа на Германию, как я ее теперь ощущаю—то тогда немногое бы изменилось.
Что я нашел в Америке потрясающим—особенно в Нью-Йорке—так это безумие города, который показался мне достаточно бессистемным, беспорядочным—и, тем не менее, полным фантазии. И когда я представляю себе, что там теперь делают политику, ставящую все это под угрозу, тогда я уж лучше отправлюсь—ну, не знаю, в Бразилию или куда-нибудь еще.
—Почему Вы хотите уехать в Америку? Для «Лили Марлен» у Вас был бюджет в десять миллионов марок—это такие условия работы, которых в настоящий момент нет ни у одного другого режиссера в Германии.
—Такие вещи могут быстро меняться. И в Америке это тоже происходило с некоторыми. Если бы «Лили Марлен» провалилась, тогда очень быстро все было бы по-иному. Что я нахожу особенно печальным в Германии, так это то, что большинство продюсеров хотят зарабатывать не на готовом фильме, а на том, что они экономят во время съемок. Лугги Вальдляйтнер—это продюсер, который хочет зарабатывать на готовом фильме, что я нахожу нормальным. Но молодые немецкие продюсеры так много забирают из твоего бюджета, чтобы получить свою прибыль, что у тебя возникают большие трудности в попытках сделать на остаток приличный фильм.
—А теперь будем откровенны: за исключением двух—трех фильмов, любой продюсер очень быстро обанкротился бы на Ваших фильмах, если он не будет экономить на съемках. Это не аргумент, направленный против Вас, он описывает в общем всю ситуацию в кинематографе Германии. Такой фильм, как «Лили Марлен», который должен вернуть свои десять миллионов, может сделать это, только если он пробьется на международный рынок… Поэтому Вы снимали его также и на английском.
—Начиная с определенного момента, примерно с 1972 года, я уже мог рассчитывать на то, что фильмы вернут некоторую сумму—по крайней мере, это не будет чистым убытком. Раньше в Германии не было кинопромышленности и нормально работающих прокатных фирм, за исключением «Тобис-фильм». Но с того времени, как появилась фирма «Фильмферлаг дер Ауторен», которая так прокатывает фильмы с малым бюджетом, что этот малый бюджет возвращается,—с того времени мои фильмы, по крайней мере, не приносят убытков. Самое главное, что никто не несет убытков от моих фильмов, кроме меня, а это уже мое личное дело.
—На таком фильме, как «В году тринадцати лун», определенно никто не заработал.
—Но это также и фильм, на котором никто ничего не потерял. Это была копродукция между «Фильмферлаг дер Ауторен» и мною. Я делал фильм не для того, чтобы зарабатывать на нем.
—Вы можете себе представить, что когда-нибудь Вы не будете делать фильмы?
—В настоящее время—нет. Если когда-нибудь меня заставят делать только те фильмы, которые мне не хочется делать, тогда я, возможно, буду писать радиопостановки. Но, возможно, я найду другую возможность—может быть, я поеду в Африку с 16-мм камерой и буду там, как Жан Руш, снимать фильмы или делать что-нибудь еще, что мне нравится.
L i m m e r W. Rainer Werner Fassbinder. Hamburg, 1981.
Перевод с немецкого Леонида Булдакова.
1. «Штруввепетер» (1845)—детская книжка, которую написал и проиллюстрировал немецкий психиатр Генрих Гофманн (1809–1894). В русском переводе книжка вышла под названием «Степка-растрепка».
2. Альфред Альтдорфер (ок. 1480–1538)—немецкий живописец и график эпохи Возрождения.
3. Возможно, имеется в виду фильм «Белый накал» (1949) известного американского режиссера Рауля Уолша (наст. имя Альберт Эдвард, 1887–1971) . Среди фильмов, поставленных Уолшем, можно назвать, например, «Багдадский вор» (1924), «Желтый билет» (1931), «Дикарка» (1932), «Бурные двадцатые годы» (1939).
4. Джеймс Кегни (1899–1986)—популярный американский киноактер. Снялся в фильмах «Враг общества» (1931), «Победитель получит все» (1932), «Перед огнями рампы» (1933), «Сон в летнюю ночь» (1935), «Бурные двадцатые годы» (1939), «Янки дудль денди» (1942), «Какова цена славы?» (1952), «Человек с тысячью лиц» (1957), «Регтайм» (1981) и мн. др.
5. Отто Мюль (р. 1925)—немецкий организатор различных эпатажных акций.
6. «Берлин, Александерплац» (1979–80).
7. Теодор Фонтане (1819–1898)—немецкий писатель. В 1974 году Фассбиндер экранизировал его роман «Эффи Брист» (1895).
8. Жан Поль (наст. имя и фам. Иоганн Пауль Фридрих Рихтер) (1763–1825)—немецкий писатель.
9. Курт Рааб (1941–1988)—немецкий художник кино, сценарист, актер. Постоянно сотрудничал с Фассбиндером как художник и как актер, начиная с фильма «Любовь холоднее смерти» (1969) и заканчивая «Больвизером» (1976). Сыграл главную роль в фильме «Сатанинское зелье» (1975–76). Умер от СПИДа.
10. Урсула Штрец—немецкая актриса. Снялась у Фассбиндера в фильмах «Любовь холоднее смерти», «Фонтане—«Эффи Брист» (1972–73), «Кулачное право свободы» (1974) Фассбиндера и в картине Х.-Ю.Зиберберга «Людвиг—реквием для короля-девственника» (1972).
11. Пеер Рабен (наст. имя и фам. Вильгельм Рабенбауэр) (род. 1940)—немецкий композитор. Автор музыки почти ко всем фильмам Фассбиндера, начиная с картины «Любовь холоднее смерти» (1969). Снимался у Фассбиндера в эпизодических ролях. Писал музыку и для других режиссеров, например, для Даниэля Шмида («Тени ангелов», 1976, США). Поставил фильм «Сегодня мы играем в босса» (1981, художником был Курт Рааб).
12. Ирм Херманн (р. 1942)—немецкая театральная и киноактриса. Снялась у Фассбиндера в фильмах «Городской бродяга» (1966), «Любовь холоднее смерти», «Катцельмахер», «Боги чумы», «Почему рехнулся господин Р.?» (все—1969), «Американский солдат», «Саперы в Ингольштадте» (оба—1970), «Продавец четырех времен года» (1971), «Горькие слезы Петры фон Кант», «Звериная тропа», «Восемь часов—не день» (все—1972), «Фонтане—»Эффи Брист»» (1972–73), «Нора Хельмер», «Страх съесть душа» (оба—1973), «Кулачное право свободы» (1974), «Вознесение матушки Кюстерс», «Страх перед страхом» (оба—1975), «Женщины в Нью-Йорке» (1977), «Берлин, Александерплац» (1979–80), «Лили Марлен» (1980). Сыграла небольшую роль в фильме В.Херцога «Войцек» (1978). Снялась также в фильмах «Волшебная гора» (1982, реж. Ханс В. Гайссендёрфер), «Дориан Грей в зеркале бульварной прессы» (1984), «Пассажир—добро пожаловать в Германию» (1988, реж. Томас Браш), и др. В 1980–90-е гг. много работала на телевидении.
13. Клаус Лемке (р. 1940)—немецкий режиссер, сценарист, актер. Член Мюнхенской группы. Работал в основном для телевидения; поставил фильмы «Негреско», «48 часов до Акапулько» (оба—1967), «Рокер» (1972), «Сильви» (1974), «Идол» (1976), «Возлюбленные» (1977), «Арабская ночь» (1979), «Медовый месяц» (1980), и др. Автор сценариев к ряду своих фильмов.
14. Рудольф Томе (р. 1939)—немецкий режиссер, сценарист, продюсер, актер. Член Мюнхенской группы. Снял фильмы «Стелла» (1966), «Детективы» (1968), «Супердевочка» (1971), «Странный город» (1972), «Сделано в Германии и в США» (1974), «Дневник» (1975), «Микроскоп» (1988), «Философ» (1989), «Разговор с Венерой» (2001), и др.
<…>
21. Карстенсен, Маргит (р. 1940)—немецкая актриса. Снялась в фильмах Фассбиндера «Кофейня», «Поездка в Никласхаузен» (оба—1970), «Горькие слезы Петры фон Кант», «Восемь часов—не день», «Бременская свобода» (все—1972), «Мир на проводе», «Нора Хельмер», «Марта» (все—1973), «Вознесение матушки Кюстерс», «Страх перед страхом» (оба—1975), «Сатанинское зелье» (1975–76), «Китайская рулетка» (1976), «Женщины в Нью-Йорке» (1977), «Третье поколение» (1978–79), «Берлин, Александерплац» (1979–80). Кроме того, снялась в фильмах «Адольф и Марлен» (1977), «Дикие пятидесятые» (1983), «Манила» (2000), «Солнечная аллея» (2000), и др.
22. Дуглас Сёрк (наст. имя и фам. Клаус Детлеф Зирк) (1900, Германия-1987, Швейцария)—американский кинорежиссер. В 1930-е гг. эмигрировал из Германии в США. Поставил фильмы «Безумец—Гитлер» (1943), «Скандал в Париже» (1946), «Спи, моя любовь» (1948), «Мистическая субмарина» (1950), «Великолепное наваждение» (1954), «Всё, что дозволено небесами» (1955), «Написанное небом» (1956), «Поблекшие ангелы» (1957), «Время жить и время умирать» (1958), «Имитация жизни» (1959), и др.
<…>
* Книги о Фассбиндере, в которой было опубликовано это интервью. (Здесь и далее прим. ред.).
** Правильнее было бы перевести название этого фильма как «Берегись святой шлюхи» или «Осторожно, святая шлюха».
**** Прошу прощения (англ.).
***** Чистым светом (англ.).
Информацию о возможности приобретения номера журнала с полной версией этой статьи можно найти здесь. |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.