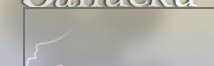|
 |
|
Оскар А.Г. ШМИЦ
«Этот день был чрезвычайно напряженным <…> Началось все с бесконечного ожидания в приемной в Госкино. Через два часа просмотр. Я увидел «Мать», «Потемкина» и одну часть «Процесса о трех миллионах»—записал в своем дневнике 24 января 1927 года выдающийся немецкий теоретик культуры, эссеист, литературный и художественный критик Вальтер Бень-ямин (1892–1940), посетивший зимою 1926/1927 года Москву. Другая дневниковая запись, спустя два дня, завершается строчкой: «Вечером писал ответ на статью Шмитца о «Потемкине» (В а л ь т е р Б е н ь я м и н. Московский дневник. М.: Ad Marginem, 1997, с. 146 и 151). Обе статьи—перед нами. Оппонент Беньямина—его соотечественник, известный социолог и литературный критик Оскар А.Г.Шмитц (1873–1931). Их статьи были помещены в одном номере газеты «Die literarische Welt» и обозначили проблему, активно обсуждавшуюся в ту пору социологами и философами франкфуртской школы: проблему тенденциозности искусства. Я не оброню ни слова о бестактности, какую у нас все еще совершают прокурор и полиция в тех областях, где художественные интересы пересекаются с политическими или моральными, однако «культурный позор»—например, запрет фильма «Броненосец “Потемкин”»—не сильнее, чем заблуждение некоторых авторов ведущих газет, будто бы эта бюрократическая оплошность лишила немецкий народ возможности насладиться великим произведением искусства. Уже хотя бы для того, чтобы помешать таким качаниям маятника в противоположную сторону, следовало бы поскорее снять запрет с этого фильма. Я смотрел его в Австрии. Поскольку то же заблуждение, какое возводит кинофильм «Броненосец “Потемкин”» в произведение искусства, объясняет и упадок нашей послевоенной литературы, я бы хотел в этой связи попытаться его опровергнуть. В самом начале несколькими фразами на экране публике сообщают, что ей представляют не индивидуальное, а коллективное произведение. Так вот: таким объяснением этот фильм, как бы высоко ни стоял он в техническом отношении, выводится за пределы не только художественного, а и собственно человеческого интереса, ибо коллективные процессы подчиняются механической причинности, которую можно предвидеть. Непредвидимым, а потому по-человечески захватывающим и эстетически значимым является только индивидуальное, то, что заставляет сам по себе поддающийся исчислению коллективный причинный ряд, который постоянно всем нам угрожает, в какой-то непредвиденный момент внезапно влиться в некую потрясающую судьбу. <…> Я уже не говорю о том, что действие к тому же может быть фальсифицировано—во всяком случае, такое подозрение дозволено, поскольку тенденциозное произведение не претендует на то, чтобы его считали правдивым,—однако даже если все происходило так, как оно изображено в фильме, то напрашивается единственный человечески и художественно важный вопрос: как это может быть, чтобы именно капитан, офицеры и судовой врач оказались такими чудовищами? Что произошло в их душах за время известных событий? Без такого обоснования всё в целом—невероятно, даже если так оно и было на самом деле. Для большевика обоснование здесь проще простого. Ведь эти начальники—«буржуи», а каждому известно, что это значит: угнетатели народа, садисты, для которых кормить зависимых от них людей червивым мясом лишь одна проделка из многих. Однако такое шаблонно и огульно осуждающее, то есть неиндивидуальное рассмотрение целых сословий, профессий, возрастов—это примитивная противоположность той дифференцированной человечности, из которой вырастает искусство, и, надо сказать, что такую человечность в нашей послевоенной литературе встречаешь лишь в единичных случаях. В нашей! Потому что в английской и американской дело обстоит по-другому. Так, Голсуорси в своей «Саге о Форсайтах», изображая поздневикторианскую и послевоенную Англию, не оставляет ни малейшего сомнения в том, как сильно он осуждает капиталистическую систему, которая механизирует нашу жизнь. <…> Точно так же, как с «Сагой о Форсайтах», обстоит дело и со знаменитым американским романом «Бэббит» Синклера Льюиса, который тоже обрел мировую славу. Его хвалят даже наши молодые критики, потому что он, наконец, срывает маску реакционного лицемерия с американской буржуазии, сидящей на мешке с деньгами. Однако разговора о том, каким особым и отнюдь не немецким образом это происходит, я не слышал нигде, так как в итоге нам искренно полюбился беспомощный бедняга Бэббит, который всю жизнь пытался что-то «толкать» на рынке, но которого постоянно отталкивали жена, дети и общественное мнение. <…> То или иное произведение становится подлинно значительным только благодаря личному отстранению автора от изображаемого, благодаря его восприятию ценностей и возможности претворения их в жизнь. Это не столько чисто художественное, сколько высокое человеческое свойство. К счастью, в качестве примера я могу привести еще новую немецкую книгу, которую давно уже обсудили все газеты и знает каждый любитель литературы. Это роман Якоба Вассермана «Лаудин и его люди». <…> И здесь, как и в вышеназванных зарубежных романах, не возникает ни малейшего сомнения в том, что существующий до сих пор буржуазный уклад жизни стал совершенно бесплодным, однако избавление видится не в новом коллективном жизненном шаблоне, вроде марксистского или националистического, а в индивидуально-человеческом начале, которое буржуазия, правда, утратила, но может обрести вновь, главным образом усилиями своих сыновей и дочерей. «Die literarische Welt», 11 März 1927. Информацию о возможности приобретения номера журнала с полной версией этой статьи можно найти здесь. |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.