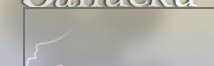|
 |
|
Валеска ГЕРТ
Валеска ГЕРТ (Гертруда Самош, 1892–1978) вошла в историю немецкого и мирового искусства прежде всего как танцовщица. Ее «гротесковый танец», родившийся на маленьких сценах берлинского кабаре, оказался сродни самому крупному и характерному явлению германской культуры после первой мировой войны—экспрессионизму (в театре, в изобразительном искусстве, в музыке). Отвергая идиллическое равновесие и услаждающую красоту классического балета во имя откровенной, часто беспощадной «выразительности» душевных и танцевальных движений, Валеска Герт сочетала острую пародийность с моментами «лирического признания», мощь интеллектуального обобщения с пряной чувственностью. Ее танец часто сравнивали с карикатурами Георга Гросса, иногда—с музыкой Альбана Берга и песнями Курта Вайля на стихи Брехта, но никакие сравнения не могут исчерпать оригинальности ее новаторского таланта (без влияния которого не мог бы родиться танцевальный театр второй половины ХХ века). Для кино Валеску Герт открыл Георг Вильгельм Пабст, доверив ей роль содержательницы борделя в фильме «Безрадостный переулок» (1925). Режиссер остался доволен ее лаконичной и яркой игрой—у него же танцовщица сыграет директрису исправительного заведения в «Дневнике падшей» (1929) и фрау Пичем в «Трехгрошовой опере» (1931). Жан Ренуар под впечатлением первой роли Валески выберет именно ее на роль камеристки в «Нана» (1926). Эмигрировав после прихода нацистов к власти в Нью-Йорк, Герт организует там кабаре—и надолго исчезнет с экрана. Лишь в 1965 году ее вернет в кино не кто иной, как Федерико Феллини—пригласив на роль прорицателя-гермафродита Бишмы в «Джульетте и духах». Возвращение Валески Герт станет сенсацией для режиссеров и критиков Нового немецкого кино: будто появился еще один живой мостик в догитлеровский «золотой век» родного искусства. Фолькер Шлёндорф перед «Жестяным барабаном» сделает о ней полудокументальный фильм «Только ради потехи, только ради игры. Калейдоскоп Валески Герт» (1976/77), Вернер Херцог приготовит ей роль в своей версии «Носферату» (1978), но не успеет ее снять… Был еще один режиссер, не в фильмах, а в жизни которого Валеска Герт сыграла пусть эпизодическую, но важную роль: Эйзенштейн. Они встретились в 1928 году в Москве, где ее гастроли организовала жена заместителя наркома иностранных дел М.М.Литвинова, англичанка, которую по-русски именовали Айви Вальтеровна. Она же, дружившая с Сергеем Михайловичем, познакомила режиссера с танцовщицей. Эйзенштейн не пропустил ни одного концерта. По свидетельству Лили Брик, взявшей шефство над необычной гастролершей, он участвовал в их прогулках по Москве, «не отлипал от Валески» и непрерывно смешил комментариями к московскому укладу и быту (через год Валеска Герт вернет Сергею Михайловичу долг, посвящая его в жизнь и нравы берлинского артистического «света» и богемы). Несколько раз Эйзенштейн пробует изложить впечатления от ее личности и танца в виде эссе, которое он хочет назвать то «Валеска-гротеск», то «Парижанка», то «В мировом масштабе о Валеске Герт» (см. текст последнего наброска в «КЗ» № 11, с. 211–212)… …В марте 1968 года в программу открытия Фестиваля в Оберхаузене «Сенсации года» был включен фотофильм «Бежин луг» Сергея Эйзенштейна». Не-ожиданно (как позже выяснилось, по рекомендации С.И.Юткевича и под поручительство, данное выездной комиссии ЦК К.М.Симоновым, который возглавлял тогда советскую делегацию) я, до того «невыездной», получил право представить нашу квази-реконструкцию за границей. На третий или четвертый день фестиваля Эрика и Ульрих Грегоры нашли меня в просмотровом зале и, взволнованно перебивая друг друга, зашептали: «Беги в фойе… Там Валеска Герт… Она рассказывает про Эйзенштейна…». В толпе молодых людей я не сразу увидел маленькую, щуплую женщину. Frau Gert выглядела более чем экстравагантно: черный кожаный брючный костюм, кожаная кепка с большим козырьком, густо морщинистое лицо с наклеенными ресницами и длинная папироса в фиолетовых губах. Грегоры представили меня. В глазах фрау Герт расширились и тут же сузились зрачки, и низкий голос со странной реверберацией произнес: «Эйзенштейн… Он был один из пяти мужчин, которых я действительно любила в этой жизни…». В повисшей паузе на грани ультразвука послышалось эхо растянутых гласных: «… ich hab’ in diesem Leben geliebt». Под странно кошачьим взглядом ее ореховых глаз я выдавливаю из себя вопрос, сохранились ли у нее письма Сергея Михайловича. Глаза мгновенно темнеют, а голос отбрасывает ревербератор: «Эти разбойники украли у меня всё! Мою родину! Мою жизнь! Моих друзей! Всё, что у меня было дома!». Возмущенный выдох молодых людей, окружающих фрау Герт: у нас впечатление, что разбой нацистов произошел вчера. Да, у нее были и записки, и рисунки Eisenstein’a, но ей пришлось бежать, бросив самое дорогое на разграбление и поругание! Может быть, фрау Герт помнит… напишет мемуары?.. Ресницы скромно опускаются, кожаные рукава смыкаются, изображая полное послушание: «Валеска—девушка благоразумная и прилежная, ее мемуары уже в венском издательстве и через месяц выйдут в свет». Наверно, фрау Герт будет приятно узнать, что в архиве Эйзенштейна сохранились (пока, правда, неопубликованные) заметки о ней и об ее искусстве… Зрачки заполняют глаза, совершенно молодой голос звенит: «Они написаны по-немецки?» Нет, по-русски. «Но почему? Ведь я не смогу прочитать! Он так хорошо говорил по-немецки… Знал такие выражения… (шея Валески вдруг вытягивается стебельком, лиловые губы собираются в точку, голова превращается в цветочный бутон, который колеблется не то в смущении, не то в восхищении)… такие выражения, которые знает не каждый немец… особенно (презрительным свистящим шепотом) благовоспитанный…». На общем хохоте фрау Герт произносит мягким, даже ласковым голосом: «Простите, мне давно пора…». Актриса поймала момент полного успеха у публики, когда можно покинуть сцену. Короткое твердое рукопожатие, будто впечатывающее весь разговор в память: «Я пришлю Вам книгу—оставьте адрес в секретариате». Через два или три месяца на Смоленскую приносят бандероль с книгой. На обложке—лицо-маска автора, нарисованное в пародийно-экспрессионистском стиле, и название, не то в шутку, не то всерьез: «Ich bin eine Hexe» («Я—ведьма»). Найдя главку про Сергея Михайловича, я в конце ее с удивлением нахожу отзвук нашей встречи в Оберхаузене: фрау Герт успела позвонить в Вену и вставить в уже набранный текст несколько строчек. Ниже впервые по-русски печатается фрагмент об Эйзенштейне из этой книги.
Наум Клейман
Информацию о возможности приобретения номера журнала с этой публикацией можно найти здесь. |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.