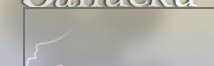|
 |
|
Олег АРОНСОН
Когда мы говорим о документальном кино, то есть искушение любую проблему рассматривать исходя из некоторой специфики данного типа кинематографа. И если такой проблемой является монтаж (а монтаж для документального кино — очевидная проблема), то неявно предполагается, что сама характеристика кино как документального требует некоторой техники монтажа, чем-то отличающейся от монтажа в так называемом игровом кино. Такой путь приводит нас к тому, что сама постановка вопроса о монтаже имеет чисто практический характер: способ организации материала, его представление должны, с одной стороны, находиться в рамках некоторых законов зрительского восприятия, позволяющих этому материалу быть именно фильмом, а с другой — не разрушить «ощущение подлинности» документов, то есть быть не просто фильмом, а именно фильмом документальным.
Однако здесь есть некоторый теоретический парадокс, который на поверку оказывается больше, чем просто парадокс, и имеет очень драматичные последствия. Он заключается в том, что «ощущения подлинности» происходящего на экране мало для фильма, претендующего быть документальным. С неизбежностью необходима зрелищная форма, учитывающая восприятие зрителя. Другими словами, документальное кино, исходящее из презумпции документа как некоторого элемента подлинности, элемента непосредственного соединения изображения и реальности (даже не соответствия, а именно соединения), декларируя себя документальным именно в этом смысле, тем не менее базируется на форме зрелища, которую стремится «вытеснить» в качестве существенной. Понятно, почему так происходит: форма зрелища предполагает, что реальность замещается представлением, в котором документ теряет свою документальность. В результате то, что мы называем документальным фильмом, располагается в очень широких границах, где правила работы с документом (в том числе и правила монтажа) оказываются подчинены законам зрелища. Фактически, можно сказать, что само использование хроники, архива, интервью с реальными людьми оказывается вполне достаточным, чтобы фильм уже получил статус документального. При этом монтаж, крупный план, операторская работа и многое другое остаются всего лишь техникой, чем-то вторичным, менее существенным по сравнению с самим материалом, составляющим содержательную сторону картины. Однако само неизбежное наличие этой техники представляет угрозу (иногда почти неощутимую) документу. Эта необходимая техника кинозрелища во всяком своем проявлении есть уничтожение документа, придание ему уже кинематографического смысла.
Результатом указанного противоречия являются две крайние стратегии. Первая — делать на документальной основе вполне жанровое, художественное кино, а в пределе — произведение искусства (что является в данном случае лишь «возвышенным» вариантом зрелища). Другая — нивелирование техники настолько, что документальная основа фильма оказывается уже по ту сторону восприятия, то есть само «ощущение реальности» исчезает, поскольку, как выясняется, оно все-таки требует для себя некоторой техники. Попытка примирить эти две стратегии представляется неубедительной, поскольку они принадлежат, если так можно выразиться, различным логическим системам или — системам мысли, только номинально объединенным под вывеской «документальное кино». Действительно, в первом случае мы имеем дело с кино как с некоторой интерпретативной машиной культуры, где искусство (и искусство кино, в частности) обладает столь высоким ценностным статусом, что никакой документ не может с ним конкурировать. Во втором случае можно говорить о своеобразном кинематографическом руссоизме, отрицающем культурные технологии, верящим в то, что «правда» и «реальность» могут найти друг друга в пространстве кадра, и ради этой встречи можно пожертвовать даже зрителем.
Все вышесказанное, как это ни странно, может быть адресовано и игровому кино, что наводит на подозрение: граница между документальным и игровым кино весьма условна, а если мы говорим о монтаже, то в этой альтернативе рассуждения и о монтаже, и о других технических средствах будут одни и те же.
Задача, однако, заключается в том, чтобы не противопоставлять документальное кино игровому, а прочертить границу документальности иначе, так, чтобы можно было говорить не просто о монтаже, а именно о таком «документальном монтаже», который отсутствует в игровом кино, а точнее, обнаруживая себя в нем, привносит некий дополнительный эффект, который мы связываем с ощущением подлинности. Поначалу кажется, что такого особого монтажа не существует. Но это так лишь до тех пор, пока мы подразумеваем под монтажом некоторую техническую процедуру соединения друг с другом кадров, планов, эпизодов, то есть пока монтаж имеет дело только с пленкой (или с изображением, как, например, в понятии внутрикадрового монтажа). Когда же мы говорим о «документальном монтаже», то это значит, что помимо материального носителя, зафиксировавшего некий фрагмент реальности «документально», помимо полученного изображения, которое можно детально изучить, есть еще и некий способ восприятия документа, который внутри себя неоднороден. То есть документ представляет собой уже смонтированную целостность, а его единичность каждый раз выступает только лишь в качестве образа, того самого образа документа, который создает необходимый для зрительского восприятия эффект документальности.
Первое, на что хотелось бы обратить внимание в этой связи: не существует никакого документа, который был бы самодостаточен в качестве документа или, говоря иначе, предъявление которого в кадре свидетельствовало бы о том, что перед нами именно документальный фильм. Скорее, можно говорить о том, что есть именно эффекты документальности, опознаваемые зрителем. Хроника, архивные кадры, интервью, съемка ручной камерой и многое другое, что содержит в себе эффект документальности, давно и активно используется игровым кино в том числе. И вот этот эффект документальности в кино воздействует сильнее документа, а имитация документальности (искусственное, техническое воссоздание этого эффекта) неотличима на уровне зрительского восприятия от некой «подлинности» документа. Это один из важных эффектов кино: реальность воссоздаваемая в кинематографе, не имеет непосредственного отношения к видимой, физической, исторической реальности, она вполне самостоятельна, и потому «документальность» в кино не есть нечто заданное самим фактом съемки, а есть то, что имеет свои технические средства для воплощения. Документ не регистрируется, а производится некоторым кинематографическим жестом, некоторой «малой технологией» по восстановлению мира в правах.
Это требует объяснения. Дело в том, что если мы привычно мыслим документ как некоторую материальную данность (вещь), присутствующую в мире, как материальную данность самого мира, то такой документ, попадая в фильм, начинает жить по кинематографическим законам, где права реальности на высказывание сильно ущемлены по сравнению с той виртуализованной реальностью, где таким образом понимаемый документ теряет самое важное — актуальность для нашего восприятия. Даже если мы мыслим документ не как конкретную вещь, но, например, как способ восприятия этой вещи в определенное время (и тогда старый игровой фильм оказывается более документальным, больше говорящим о зрителе того времени, нежели какие-то хроникальные кадры), то и в этом случае, хотя здесь мы уже ближе подходим к идее кинематографического документа, речь идет скорее о той или иной форме закрепления знаков времени в пространстве зрительского восприятия. И в том и в другом случае, так же, как и в случае с чисто постановочным (имитационным) фильмом, мы имеем дело с тем, что документ связывается нами со знаками времени (в виде ли конкретных вещей, или способов отношения к ним, или символически преломленных связях с ними). Проблема, однако, в том, что в кино эти знаки уже не есть знаки некой реальности мира, сколь бы настойчивы они ни были в своем стремлении с этой реальностью совпасть, но эффекты (наряду со многими другими), составляющие материю кинематографа. Эффект документальности — так же как и эффект монтажа — это то, из чего строится кинематографический образ. Можно даже сказать больше: в любом киноизображении в той или иной мере наличествует эффект документальности. Связан он с ситуацией «присутствия», которая больше, чем психологическое ощущение присутствия при какой-либо реальности (характерной для театрального зрителя или для читателя литературы), но явно меньше, чем присутствие-в-мире.
<…>
Теперь можно сказать так: кино (неважно, игровое или документальное), ориентированное на представление, на систему образов, в которых нет разницы между актером и документом, где важно лишь установить дистанцию (представить, изобразить) по отношению к реальности, к миру, — такое кино (изображающее, имитирующее) всегда искусственно ко всему и в том смысле, что ориентировано на искусство (представление). Такое кино центрирует мир вокруг воспринимающего «я», а помогают в этом технические средства, и одним из них является монтаж. В таком кино эффект документальности максимально скраден, поскольку он связан именно с разрушением имитационной дистанции между «я» и миром. Эффект документальности – это «вхождение в присутствие», то, что мы совершаем ежедневно, но по отношению к чему не устанавливаем рефлексивную дистанцию. Когда мы утром чистим зубы, пьем кофе за завтраком, читаем утреннюю газету, смотрим телевизор, едем на работу, заходим в магазин, — во все эти моменты мы не присутствуем в мире, мир для нас перестает существовать. В эти моменты мы не принадлежим сами себе («я» выключено), поскольку мы пользуемся схемами поведения, предпосланными нам другими. Без бытия-с-другими наше присутствие неполно, ибо те промежутки нашего существования, в которые «я» бездействует, мир себя не проявляет, — это и есть то «пустое время», где мы вписаны в общий порядок.
Именно невидимые схемы общего порядка являют собой эффекты документальности. Это вовсе не значит, что документальное кино должно изображать повседневность как мытье рук, приготовление завтрака и т.д., вплоть до мельчайших деталей быта. Как раз наоборот: фиксация, изображение этих деталей лишает их эффекта документальности (остраняет их). Задача в том, чтобы само изображение стало элементом «общего порядка», то есть обрело документальный эффект в качестве собственного смысла. Смысла, обладание которым передано всегда отсутствующему другому. А эта задача может быть решена только технологически. Только технология здесь выходит за рамки кинематографической техники, становясь той самой «малой технологией», которая имеет дело с расщеплением образов повседневности, казавшихся до того целостными. В качестве целостных образы повседневности не имеют значения. Они словно представляют собой саму рутину существования. Значением наделяет их монтаж, который как раз и можно назвать документальным, поскольку он выделяет безликий повторяющийся образ, делает его знаком. Обычно такую монтажную функцию несет в себе время. Когда мы смотрим старый фильм, то значимыми оказываются элементы, которые не отмечались современниками в качестве таковых: другая одежда, забытые трамваи, здания, которых уже нет, и даже лица, столь отличные от нынешних, — все это смонтировано (выделено в качестве отдельных значащих элементов) не режиссером, не оператором, а временем, изменившим ритм нашего восприятия, изменившим его порядок, порядок повседневности, которая и есть ритм времени, или — монтаж.
<…>
Эффект документальности — это такое нарушение правил, которое тем не менее не противоречит восприятию, не устраняет «присутствие» целиком, а открывает в нем зону слабости, «пустое время», то, что принадлежит будничности настолько, что кажется незначимым абсолютно, то, что исключается технологически понятым монтажом и при этом обладает определенным воздействием.
Если переводить разговор в практическую плоскость, то все вышесказанное означает способность режиссера рассогласовывать восприятие и технику монтажа. Кинозритель не просто обучен монтажному образу. Он ожидает монтажного стыка в тот момент, когда сцена отыграна, когда наблюдаемое событие уже состоялось, когда кинематографические знаки в кадре, казалось бы, все прочитаны, изображение исчерпано. Монтаж оказывается технологией по производству кинематографических форм, он мыслится именно как форма зрелища.
Вернемся теперь к тому, что было названо «малой технологией», «восстанавливающей мир в правах». Это такой кинематографический жест, который исходит из того, что сам мир (как и его киновариации) устроен неизбежно монтажно, его непрерывность — иллюзия, а еще большая иллюзия — в воспроизведении этой непрерывности искать документальность. Документ (как некоторое высказывание мира) есть то, что не может быть объективировано, то, что располагается в монтажном стыке, то есть непредставимое в мире. Это промежуток «пустого времени», которое пусто только с точки зрения того типа восприятия, который господствует в данный момент. Однако это «пустое время» некоторым образом структурировано, хотя эти структуры, конечно, теряются под напором жанровых и смысловых канонов. Упоминавшаяся художница называет «пустое время» безмятежным, что само по себе уже достаточно интересно, поскольку в этом чистом прерывании времени она находит некую позитивную составляющую, которую мы обычно игнорируем, считая подобную пустоту только негативной. Дело в том, что «пустое время» взывает к открытию иного типа событий, к введению новых различий, структурирующих время заново. В кино это и есть то, что было названо «малой технологией». Открыть монтаж в качестве малой технологии — значит перестать мыслить его как форму произведения, а обнаружить в нем потенцию к изменению формы восприятия.
Итак, можно сказать, что граница документальности в кино проходит там, где господствует «малая технология», то есть способность режиссера перепоручать в какой-то миг свое зрение камере (иному способу восприятия) и не вырезать эти моменты десубъективации при монтаже. Это можно описать примерно так: документальность застает нас в тот момент, когда ничего не происходит, но это «ничего» при этом позитивно, оно притягивает, завораживает. Через него в пространство фильма входит другой, чей закон восприятия не освоен нами, однако при этом он носит характер закона, то есть может стать и моим восприятием в том числе. Эффект документальности («вхождение в присутствие») есть миг, когда мое восприятие перестает мне принадлежать (лишенность завершенной формы), когда оно вынесено в пространство кино, где неизбежно является уже общим восприятием.
Конечно, в чистом виде мы не найдем никакого документального фильма в этом смысле. Конечно, в данном случае документальность — теоретическая абстракция, через которую можно показать, в частности, изменение понимания монтажа. Для кино сегодня (а для документального кино особенно) монтаж уже не есть один из элементов киноязыка. Монтаж — перцептивная схема, заложенная в основании кино вообще. Следование эффектам документальности, обнаруживающим «пустое время» другой жизни – жизни, в которой значимость событий изменена, акцент делается уже не на изображении, а на образах перехода от одного изображения к другому, то есть собственно на кинообразах, — все это позволяет переосмыслить монтаж, перевести его из языкового пласта в перцептивный.
Сегодня зритель обучен языку монтажа настолько, что само кинозрелище всё больше начинает располагаться в пространстве безмятежного восприятия, осваивая «пустое время» как некий источник самостоятельной кинематографической образности. И документальный фильм вынужденно должен следовать этим же правилам. Однако он становится документальным тогда и только тогда, когда монтироваться начинают не планы. Когда эффекты, которые мы назвали документальными, вступают во взаимодействие, находящееся за рамками киноязыка, в «пустом времени», где нечитаемое и невидимое (то есть кинематографически неимитируемое) начинает воздействовать как документ только благодаря самому фильму.
Информацию о возможности приобретения номера журнала с полной версией этой статьи можно найти здесь. |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.