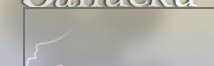|
 |
|
Александр ДЕРЯБИН
Появление известного режиссера в кадрах своего фильма всякий раз вызывает у киноведов (а, может, не только у них) живой интерес. Тут же возникают вопросы, догадки, предположения, а главное — подспудно закрадывается желание узнать этого режиссера среди второплановых персонажей его следующего фильма.
Прием почти безошибочный. Тем интересней поразмышлять, для чего входят в кадр документалисты, визуально известные куда меньше режиссеров игрового кино. Возьмем Дзигу Вертова. И его безусловный шедевр «Человек с киноаппаратом» (1929).
Этот фильм, исследованный с самых различных точек зрения, справедливо считается одним из воплощений «чистого кино». Однако даже в лучших статьях о нем существуют серьезные изъяны, которые объясняются слишком строгой иерархичностью подхода к творчеству Вертова, незнанием многих фактов биографии режиссера. Поэтому анализ одного фильма Вертова и всего его творчества в целом лишается органичности, становится сухим и схематичным. Давно настала пора перестать делить киноработы Вертова на «значительные» и «проходные», обсасывать заезженные мотивы и темы, освободиться от заманчиво-спекулятивных подходов. Об этом образно написал В.С.Листов:
«Астрономы, изучающие солнечную систему, вычислили, что масса ее планет равна массе космической пыли, рассеянной в межпланетном пространстве. Такая ситуация похожа на творчество Вертова, в котором фильмы — звезды первой величины — соседствуют с произведениями-невидимками, с той астероидной «пылью», которой сторонятся «корабли» исследователей. А между тем — кто знает — эти частицы могут состоять из того же звездного вещества и быть соизмеримыми с планетами»[1].
С другой стороны, не стоит и абсолютизировать каждый кадр Вертова, каждый штрих его биографии — тем более, что мы имеем в виду необходимость именно цельного рассмотрения его творчества. Пока что до этого далеко: биофильмография Вертова, его дневники издаются за границей, а наши исследователи до сих пор вынуждены пользоваться устаревшими изданиями его работ.
Конечно, вертовский архив огромен: чтобы одолеть его, одному исследователю потребуется несколько лет. А это значит, что надо публиковать больше архивных материалов о Вертове, стараясь не вынимать их из исторического, творческого и какого угодно другого контекста, а объединять вокруг одной темы или значительного события. Вот тогда можно рассчитывать на то, что «вертововедение» сдвинется, наконец, с мертвой точки.
В силу всего вышесказанного, мы, обнаружив в вертовском архиве любопытный документ о работе режиссера над фильмом «Человек с киноаппаратом», решили включить в публикацию и другие материалы, так или иначе связанные с ним тематически.
Первый из этих документов — сценарный план «Производство Госкино на грани 1924 и 1925 года». Кажется не вполне понятным, для чего Вертов взялся за работу над обзорным фильмом о кинофабрике, столь далеким от его устремлений середины 1920-х. Вряд ли это было проявлением благодарности к директору кинофабрики Госкино А.В.Голдобину, который тепло относился к главному «киноку» и давал ему возможность заниматься экспериментами. Более вероятно, на наш взгляд, следующее: Вертов пытался развить опыт своих кинореклам.
<…>
Второй из публикуемых документов, набросок «Заседание «Совета «Кино-глаз», также не датирован автором. Можно, однако, понять, что текст был написан в 1925–1926 годах — в период работы Вертова над фильмом «Шестая часть мира» (1926). И опять наше внимание привлекают рекламная составляющая замысла и стремление ввести в кадр документалистов (т.е. «киноков»). Видно, что показ экспорта и импорта вытесняется рассказом о приключениях операторов, т.е. реклама превращается в саморекламу «киночества». В какой-то мере то же самое произошло и с фильмом «Шестая часть мира», который не столько рекламировал деятельность Госторга, сколько иллюстрировал неограниченные возможности вертовской киногруппы. Получилась чистой воды утопия, обращенная не к современникам, а к идеальному зрителю светлого будущего (недаром фильм с треском провалился в прокате)[7]. «Необязательность» выполнения Вертовым требований заказчика картины — Госторга — усугублялась тем, что к фильму был выпущен рекламный мультипликационный шарж. А это значило, что режиссер непостижимым образом воплотил заявленные в статье о рекламе идеалистические отношения заказчика и исполнителя — он снял то, что хотел, не испытывая нужды в средствах. При этом с помощью мультшаржа он еще и прорекламировал фильм, который сам формально являлся рекламным продуктом!
После выхода фильма на экраны вертовский идеализм подвергся жесточайшему испытанию: режиссер был уволен с кинофабрики Совкино. Распалась и группа «киноков», так и не став коллективом-мечтой из «Заседания «Совета Кино-глаз». Пришлось принимать приглашение поработать на Украине.
Но и там было трудно. Если работа над фильмом «Одиннадцатый» (1928) продвигалась сравнительно легко, то съемки «Человека с киноаппаратом» (1929) оказались неимоверно сложными. Об этом свидетельствует, в частности, третий из публикуемых документов — заявление Вертова в Главрепертком. Режиссер пытался спасти замысел, предложив сделать «культурфильму», посвященную кинопроизводству. То ли Вертов собирался вынуть из «загашника» свой сценарный план «Производство Госкино...», то ли надеялся, что гипотетический фильм на эту тему (мы все же считаем, что он был сделан) руководство не видело. Судя по тексту заявления, Вертов отрешился от недавних иллюзий: он был готов на существенные «трансформации» замысла ради продолжения съемок. Искушенному глазу, впрочем, было заметно, что готовность эта — показная: Вертов, по сути, не отказался от самого замысла, названного «темой». Неужели чиновники этого не увидели? Неужели восприняли как серьезный аргумент сравнение режиссера с роженицей?
<…>
А ведь и вправду: чем больше Система, чиновники, обстоятельства давили на Вертова, тем больше он мыслил в страдательных, женских категориях. «Колыбельная» (1937) и «Три героини» (1938) вобрали в себя это в самом сгущенном виде. Именно в эти годы Вертов был, как никогда, полон замыслов, которым не суждено было превратиться в фильмы. Остро ощущая свою невостребованность, он пытался понять, почему же его «не любили», и упрямо носился с идеей серии фильмов о «живом человеке». Один из набросков так и назывался: «О любви к живому человеку». Совершенно очевидно, что на роль такого героя мог подойти только сам Вертов:
«Я сам уже не знаю, живой ли я человек, или схема, выдуманная критиками. Разговаривать разучился, выступать разучился, писать разучился с тех пор, как заметил, что слова вовсе не выражают моих мыслей. Говорю и слышу себя, контролирую. Слова не передают мыслей. Вот и сейчас надо перестать писать, потому что пишу вовсе не то, о чем думаю.
Перестаю»[15].
Действительно, во второй половине 1930-х годов происходит самоотчуждение Вертова: он начинает все чаще писать о себе в третьем лице. Множатся героини несбывшихся фильмов, роятся гнетущие ассоциации...
Конечно, Вертов не мог выплеснуть на экран свои переживания: не давали снимать. Отчасти ему удалось это реализовать в «Трех песнях о Ленине» (1934) и особенно мощно — в «Колыбельной». А в «Три героини» проникла уже только глухая обреченность: материал был «чужой». Спустя два года Вертов итожил:
«Люблю купаться и плавать — не купаюсь и не плаваю.
Люблю лес, солнце, воздух — торчу в городе среди бензиновой и прочей копоти.
С детства люблю собак — нет собаки у меня. И ничего с этим делом по некоторым обстоятельствам не получается.
Увлекаюсь волейболом, теннисом, гимнастикой, велосипедной и верховой ездой — не играю, не катаюсь, гимнастики не делаю, верхом не езжу и вообще думаю о другом — едином, неудавшемся гигантском замысле.
И все мне кажется, что мне некогда, что я очень занят, что решение близко, стоит только сосредоточить внимание в одной математической точке и прорваться сквозь все и всяческие препятствия, интриги и минные поля...»[16].
Но это—потом. А в 1928 году Вертов еще — «роженица», способная к деторождению. И всё, что она (он) может родить, всё — очень нужно. Даже если это три руки и две головы, то они пригодятся для следующего фильма-ребенка. Не случайно Вертов настаивал (в записке зав. производственным отделом ВУФКУ Ореловичу) на использовании материала фильма «Одиннадцатый» для «Человека с киноаппаратом». Похоже, что он, как Феллини, считал, что всю жизнь делал один и тот же фильм...
Но даже в таком случае одним из лучших вертовских творений остался «Человек с киноаппаратом». Недаром Вертов и его драгоценный сподвижник М.Кауфман несколько лет мечтали снять фильм о кинооператоре. И пускай, сняв эту ленту, они остались не вполне довольны результатом: сам импульс к созданию «киношного кино» оказался необычайно продуктивным. Если в ранних своих работах Вертов выводил себя и «киноков» на экран, чтобы показать их прямое участие в переустройстве мира, то появления Оператора (Михаила Кауфмана) в «Человеке с киноаппаратом» имеют иное значение. В центре этого фильма оказался не тот, кто «живее всех живых», а просто живой человек (в вертовском понимании последнего). При каждом появлении на экране Оператор невольно свидельствовал: нет никакой реальности — кроме той, что существует в нашем воображении. И, стало быть, настоящее кино апеллирует прежде всего к самому себе: его смысл заключен в нем самом.
Таковы наши нехитрые рассуждения по поводу фильма «Человек с киноаппаратом» и связанных с ним четырех документов из вертовского архива.
Все публикуемые документы представляют собой машинопись, иногда — с авторской правкой. Вписанные Вертовым слова обозначены нами курсивом, а в остальном все воспроизводится без изменений.
1. Л и с т о в В. С. Молодость мастера.—В кн.: Дзига Вертов в воспоминаниях современников. М.: «Искусство», 1976, с. 91.
<…>
7. См. об этом: «Когда снимать друг друга будете, не снимайтесь без киноаппаратов...»—«Киноведческие записки», № 30 (1996), с. 195-196.
<…>
15. Там же, с. 178.
16. Там же, с. 228.
Информацию о возможности приобретения номера журнала с полной версией этой статьи можно найти здесь. |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.