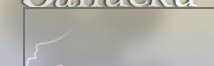|
 |
|
Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ
Эта беседа состоялась осенью 1993 года в Будапеште, куда Иннокентий Михайлович СМОКТУНОВСКИЙ (1925–1994) приезжал по случаю выхода большой монографии о нем, написанной нашей венгерской коллегой Анной Гереб — киноведом, научным сотрудником Венгерского киноархива, режиссером-документалистом. Помимо книги, она сделала два фильма-портрета о нем. Один из них («Вариации на тему одного актера: «Моцарт и Сальери», 1994) посвящен его воплощениям двух персонажей-антиподов пушкинской трагедии в телевизионных фильмах-экранизациях, разделенных почти двумя десятилетиями. Основу другого фильма («Вариации на тему актера: «Идиоты», 1995) составили съемки вечера встречи русского артиста с будапештской публикой, где он читал, перевоплощаясь в разных персонажей Достоевского, страницы романа «Идиот».
Видеопленка запечатлела еще один будапештский вечер Смоктуновского, где он читает пушкинские стихи (этот киноматериал использовался некоторыми нашими телеканалами в передачах об актере — в частности, Петром Шепотинником в «Кинескопе»).
Беседа, предлагаемая вниманию наших читателей, также происходила перед камерой. Из этого киноматериала, любезно предоставленного Анной Гереб, недавно в Москве к 75-летию артиста был сделан полнометражный фильм («Воспоминания в саду», реж. Вера Токарева, кинокомпания «Мастер-фильм», 2000). Здесь Иннокентий Михайлович комментирует свои фотографии разных лет, запечатлевшие отдельные этапы его жизни и творчества.
Воспроизводя стенограмму этой беседы, мы сопровождаем ее лишь некоторыми фотографиями из архива Смоктуновского.
Редакция
Восстановить линию жизни по фотографиям (их удивительно много, значительно больше, по-моему, чем у меня самого, потому что мои фотографии были переданы в музеи и, говорят, там их растащили) довольно сложно, но общими усилиями мы попытаемся это сделать.
Начнем с детства… Мы жили в деревне под Томском (120 километров от Томска — деревня Татьяновка). <...>
Очевидно, прадед мой, судя по фамилии, был белорусом. Моя настоящая фамилия Смоктунович. Это уже потом, когда я был в Норильске, мне сказали, что фамилия у меня какая-то неблагозвучная и надо, мол, ее поменять; вот я и поменял ее на Смоктуновский. Мне вообще предлагали взять псевдоним, но я не взял, потому что фамилия моя должна была остаться моей фамилией, я должен был остаться самим собой. Сейчас, когда я об этом вспоминаю, вижу, что был довольно смышленым человеком, если так объяснял тому, кто настаивал, чтоб я поменял фамилию.
Итак, первая половина моей жизни прошла в деревне Татьяновка. Вот на фотографии моя семья. Это вот (показывает) моя мама — Анна Акимовна Смоктунович (девичья фамилия — Махнева), а вот я. Эта детская фотография — одна-единственная, она мне очень дорога. Скажите, разве по этому лицу можно определить, что этот человек будет князем Мышкиным, Гамлетом или кем-то там еще? Смотрите, какой настороженный взгляд… Такой, я бы сказал, типично российский, чем-то недовольный ребятенок. Но, по-моему, славный, во всяком случае намного лучше, чем тогда, когда я стал уже взрослым и стал понимать, что такое жизнь.
А вот мой отец — Михаил Петрович Смоктунович. Он был замечательный человек. И красивый. Он был удивительно сложен: крупный, высокий… То есть, настолько атлетически сложен, что, работая в красноярском порту грузчиком, он на спор переносил грузы, которые, кроме него, никто не мог поднять. Но у него была романтическая идея, желание, мечта… как хотите назовите: летать на самолете. Однако никогда не летал. Правда, работая в аэропорту (отец устроился туда каким-то подсобным рабочим), он упросил одного пилота, и тот, в свою очередь, ходил упрашивать начальство, чтобы разрешили взять моего отца на борт. И он полетел. <…> Отец был замечательный человек. Когда он уходил на фронт, я знал, что он погибнет, как это ни странно, потому что, когда он шел в строю (я провожал этот красноярский отряд, направлявшийся на вокзал, откуда должен был отправиться на фронт), отец был головы-на полторы выше всех остальных, около двух метров. Я понимал, что такую мишень не может обойти даже шальная пуля. И он действительно не вернулся.
<…>
Это вот всё фотографии из детства. Дальше идет уже более интересный период. Вот та самая тетка Надя — Надежда Петровна — родная сестра отца. Она была замечательным человеком, совершенно невероятной доброты; около нее всегда была молодежь, она кормила всех моих друзей и в этом находила огромную радость. Мы приходили из школы всем классом, и она говорила: «Ой, какое счастье, что вы пришли! Как это замечательно! Садитесь, сейчас будем обедать». И начинала что-то там варить, жарить, парить и всё такое, а мы сидели и ждали, когда все приготовится.
Вот это я. Видите, какие оттопыренные уши были у меня. Фотография, к сожалению, очень контрастная, и не видно. <...>
Это (показывает) мой младший брат. Есть еще средний брат — Аркашка, но он где-то там, на другой фотографии, с матерью; такой очень белый, одутловатый — любимец всей семьи. Меня мать не любила, к сожалению. Но это не мешало мне любить ее. Вот еще портрет мамы. Она была человеком забитым, верным отцу, очень работящая… Прекрасный человек, но характер у нее был довольно жесткий. Почему-то она меня не любила — всю свою нежность, сердечность и заботу она отдавала моему среднему брату. А я с младшим братом Володей воспитывался у тети Нади.
Дальше идут фотографии юности. Они весьма занятные. Обычно у нас как снимали? Вот так (показывает на классический поясной портрет анфас). А здесь, видите?.. Это все-таки уже моя режиссура. Я здесь говорю: «Сними меня так». И вот эта фотография осталась. Здесь я еще рыжий — в отца. Ничего подобного сейчас нет — только вот седина. А раньше я был… ну просто рыжий. Меня даже в школе звали «рыжим». У меня было два прозвища: «Скоморох» и «Рыжий». Помню, «скоморох» мне вроде нравилось, потому что я всегда кривлялся, всегда вокруг меня была какая-то такая живая атмосфера, а вот прозвище «рыжий» мне почему-то не нравилось, было в этом какое-то пренебрежение. Потом «рыжий»… Какой «рыжий»? Что, на ковер, что ли, я должен выходить? Вот, посмотрите на этой фотографии. Разве уже не видно по глазам, что этот человек куда-то должен стремиться. Куда, он сам не знает, но он все время смотрит вверх. По-моему, какие-то симптоматичные вещи уже прорывались.
Да, вот еще моя мама — фотография тоже худо сделана, слишком контрастная, — она здесь ведет моего сына Филиппа. У меня сын Филипп, ему сейчас 36 лет, он уже взрослый человек. Вот на этой фотографии, пожалуй, видна вся прелесть моего засиженного мухами лица. Видите, лица не видно: одни веснушки. И прибавьте к этому совершенно светлые, голубые глаза (тоже куда-то ушли — не могу понять, куда это всё девалось) и совершенно наивный взгляд. Вот, наверное, эти глаза и эта наивность потом, когда меня приглашали на роль князя Мышкина (это отдельный разговор), и решили мою судьбу. Я, конечно, понимаю: наивность хороша. Но в этом возрасте наивность может уже граничить, извините, с легким идиотизмом. Может быть, отсюда и пошло приглашение меня на роль Идиота — князя Мышкина. Я, конечно, несколько утрирую, тем не менее лицо здесь такое… И опять взгляд вверх — поразительно!
Вот еще фотографии, которые, можно сказать, тоже предрешили мою судьбу. Это школьная самодеятельность — «Предложение» Антона Павловича Чехова, где я играю Ломова. Правда, это репетиция, потому что сыграть эту роль мне было не суждено. На сцене я должен был рыдать по поводу того, что там какие-то лужки были мои, а не моей невесты, а я вдруг, вместо того чтобы рыдать, стал истерически хохотать. Да так, что весь зрительный зал хохотал. Над чем я хохотал, не знаю. Видимо, был какой-то нервный срыв. Может быть, потому, что я попал в свою, что ли, атмосферу, находясь на сцене. Во всяком случае, я так это себе объясняю. Как бы то ни было, занавес закрыли и меня из этого драмкружка выгнали, больше я не мог там показаться.
<…>
Идем дальше. Здесь у меня уже более серьезное лицо. Это тоже юношеская фотография. Видите, сколько было рыжих волос? Столько же, сколько было веснушек на лице. Но где эти волосы? Куда ушли те невероятные, огромные силы? Их нет. Понимаете?
И вот мы подходим ко времени войны, то есть к ее окончанию — 1945 году. Ко мне довольно часто обращаются: «Давайте ваши военные фотографии», совсем не думая о том, что если у человека есть военные фотографии, значит он был около фронта, около передовой, но не воевал, нет, — он снимался в свободное время, так сказать. А я был в очень-очень страшных переплетах и об этом написал книгу, сейчас пишу вторую. Первая книга о том, как я жил, как работал над теми или иными ролями. Она называется «Время добрых надежд» и выпущена в 1979 году издательством «Искусство». А вторая книга как раз о том, как я воевал, — один из эпизодов. К сожалению, я еще не описал, как попал в плен к фашистам, как бежал. Всё это я обязательно напишу, если позволит время. Но вот сейчас я написал книгу, которая называется «Быть»[1]. И в ней я рассказываю о том, как из ста двадцати пяти — ста тридцати человек нас осталось в живых только четверо. Все остальные, как вот эта трава на лужайке, полегли. Я у них, так же, как трое других моих товарищей, забирал патроны, гранаты, чтобы как-то продлить свою жизнь и как-то защитить дорогу, которую мы должны были охранять, чтобы не прошла вырвавшаяся фашистская группировка из города Торуня (это происходило в Польше). И вот теперь меня часто просят: «Покажите ваши фронтовые фотографии!» А у меня только одна-единственная фотография, но уже не с фронта, а когда война окончилась — 1945 год. Я старший сержант. Здесь у меня усы и борода еще не росли, но я уже прошел через такие страшные испытания, которые и своему недоброжелателю не пожелал бы. Потому что, как уже сказал, я был в плену, потом бежал из лагеря военнопленных, потому что меня уже раздирали болезни: дизентерия, дистрофия… и полный психологический шок. Я не мог смириться с тем, что любой конвоир мог меня пристрелить ни за что ни про что. И я бежал. Потому что, если бы я не убежал, все равно через два-три или через пять дней, наверное, просто упал бы от бессилия. Когда я потом был отмыт моими друзьями-украинцами в Каменец-Подольской области (теперь она называется Хмельницкой областью) и лежал в горнице, передо мной на стене висело зеркало, и в силу того, что сознание еще не очень работало, я думал, что на меня в окно кто-то смотрел, с большим носом и с проваленными глазами. Я спрашивал: «Что ты смотришь? Что тебе надо?» А тот человек «в окне» в это время мне что-то шептал. Потом я догадался, что это я и есть. Я ведь год не видел себя в зеркало, находясь на передовой, воюя с фашистами в своем подразделении. Как же я мог иметь какие-то фотографии с фронта, если я занимался тем, чтобы защитить свое человеческое достоинство и, может быть, даже свою собственную жизнь, как и жизнеспособность своей страны?! Я получил пять или шесть благодарностей Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина. Помню, это было для меня огромной радостью, как это ни странно вам сейчас слышать, потому что это была большая награда (не всех ею удостаивали). У меня две медали «За отвагу», это, конечно, более высокие награды, они давались уже за какой-то конкретный военный поступок, за какое-то явное проявление боевой храбрости, что ли. Храбрость, конечно, была, но, я бы сказал, глупая. Я лез на рожон, а это неразумно. Когда я видел, что справа и слева люди падают и не встают, во мне где-то такое шевелилось: что, мол, я делаю? Но это была спонтанная, минутная мысль. Она тут же забывалась, и я опять лез в драку. Может быть, потому, что я чувствовал, что меня вела на фронте какая-то сила, я думал, что меня ни одна пуля, ни шальная, ни какая другая, ни какой осколок не могут свалить. Словно я был кем-то охраняем. Не исключено, что я был охраняем Господом Богом. Потому что даже тогда, совершенно не зная Библии, не зная Нового завета, я знал, что есть Бог, потому что мои родители — люди верущие, и тетка моя, Надежда Петровна, которую я вам показывал, тоже верила в Бога. В доме у нас в углах висели иконы. На церковные праздники зажигали лампаду… Однажды, когда мне было лет четырнадцать, не больше, тетка Надежда Петровна дала мне 30 рублей — это были такие красные и большие, как простыни, советские деньги — и сказала: отнеси в церковь, отдай на ремонт храма и на свечи. А я в ту пору получал от тетки и от ее мужа, дяди Васи, немного: может быть, в месяц рубль, не больше. Представляете, какова была мысль у мальчика, который имеет такое огромное состояние, когда можно мороженое есть с утра до вечера целый месяц? Я зажал эти деньги в руке и страшно с собой боролся: идти и отдать эти деньги на ремонт храма или не отдать? И решил не отдавать: нет-нет, я буду счастливый человек, буду есть много мороженого, это будет так вкусно, так хорошо. Потом вдруг я как-то оказался с зажатыми в кулаке тридцатью рублями около церкви, вхожу в нее, страшно нехотя, весь перепуганный, разжимаю кулак и отдаю деньги какой-то тетеньке, говоря: «Вот, пожалуйста, возьмите, это на ремонт храма». Помню, у меня состояние было какое-то ужасно нервное. Она взяла и сказала: «Спасибо», и больше ничего, так сказать, не происходило. Народу в церкви было мало, пахло ладаном, горелыми свечами. И я вдруг почувствовал какое-то удивительное освобождение. Мне было так хорошо! Я исполнил какой-то огромный долг — четырнадцатилетний маленький человечек. Потом, когда я узнал про тридцать сребреников (вот они, те тридцать рублей!), я был почти убежден, что, если бы я их не отдал, то меня бы не было в живых. Вот и на фронте я чувствовал, что меня вела какая-то сила.
Есть еще одна фотография, которую я хочу вам показать. Фотография 1941 года, то есть до того как я попал на фронт. На фронте я был только с августа 1943-го, с Курской дуги. Врать не буду: в самых жарких боях этой страшной битвы я не участвовал, я пришел туда, когда она уже заканчивалась: 8 августа 1943 года. Еще шли страшные бои, но того пекла, которое было до этого, я уже не застал, к счастью. А фотография эта ничего общего с фронтом не имеет, это мои первые шаги на сцене Красноярского театра. Вот это я (показывает), а это моя подруга. Я играю какого-то стрельца в «Смерти Иоанна Грозного». Совсем маленький эпизод: пускаю стрелу в какого-то там недруга. Это копия, на ее обороте ничего, к сожалению, не указано, а на оригинале мною было написано: какое-то там июня 1941 года, «Начало моего пути». Совершенно невероятно! Знал ли я, что я буду воплощать на сцене князя Мышкина, Гамлета, царя Федора и всех прочих? «Начало моего пути»! Ничего не могу понять. Или это страшная самоуверенность, граничившая с глупостью, или я был в то время уже не так глуп, как потом…
А вот две фотографии, которые многое значили в моей жизни. Здесь я играю лейтенанта Фарбера, интеллигента в очках, в мирной жизни преподавателя математики в МГУ. Фильм «Солдаты»[2] был снят по прекрасной повести Виктора Платоновича Некрасова «В окопах Сталинграда». Ну, об этом можно рассказать целую новеллу.
К этому времени я уже поработал во многих театрах и потом решил всё бросить, потому что ничего путного из того, что я сделал в театре, не было. Я думал, что уже ничего не сделаю, потому что все то, что я делал, не заставляло меня уважать самого себя. И я решил вообще уйти из искусства. В то время я работал в Сталинграде, а до этого был в в Красноярске, в Норильске, в Махачкале, еще в каком-то городе, не буду всех перечислять, чтобы не тратить время. Потом я приехал в Москву, снялся в одной роли. Это была моя первая работа в кино. Мы сделали небольшой спектакль в Театре-студии киноактера: «Как он лгал ее мужу» по Бернарду Шоу[3]. Вот это я (показывает на фотографии), а это мои партнеры. И здесь: я и моя партнерша Елена Кузьмина, замечательная актриса и жена удивительного человека и режиссера Михаила Ромма, с которым потом у меня был творческий и человеческий союз — я играл у него в «Девяти днях одного года». Чудо-человек, огромного, философского ума. Равного ему среди режиссеров я не встречал. Ну, так вот, на основе спектакля был сделан трехчастевый фильм, в котором я играл поэта Генри, влюбившегося в замужнюю жену. Это была моя первая съемка. А затем Елена Кузьмина сказала своему прекрасному мужу Ромму: «Я работаю сейчас на сцене с совсем неизвестным актером, но, по-моему, он какой-то славный, милый и всё как-то хорошо у него получается; пригласи его сниматься в свой фильм!» И он пригласил меня. Он ставил тогда «Убийство на улице Данте». Вот эти фотографии: здесь я в роли этакого фашиствующего молодчика. Не знаю, что со мной произошло, но на съемке я не мог ничего сделать. Это было так страшно! Я так волновался! Ромм смотрел на меня и думал: где же все то, о чем говорила ему так долго и с такими эмоциональными эпитетами жена? Где тот талант, где те способности, где тот замечательный человек, о котором она ему рассказывала? Ничего этого не было. Тем не менее он все время говорил: «Успокойтесь, дорогой. Что вы так волнуетесь? Не надо. Всё хорошо, успокойтесь. Сейчас мы снимем». И я действительно успокоился, и мы сняли более-менее благополучно. Но до того как сняли, я слышал из-за декорации, как братья-актеры (а там в главной роли снимался Михаил Козаков) говорили Ромму: «Ну что вы, Михаил Ильич, возитесь с этим ничего не знающим, ничего не умеющим и вообще чудовищным актером?! Он же ни слова не может выговорить!» А Михаил Ильич Ромм в ответ (это я тоже слышал): «Понимаете, Миша, он так волнуется, что, может быть, оттого волнуется, что ему есть что сказать. А мы, может быть, не готовы его воспринять.» «Ну, — сказал Миша Козаков, — «мы не готовы»! Мы давно уже готовы снять эту сцену, он один нас задерживает.»
Понимаете? Когда встречаешь на жизненном пути такого человека, как Ромм, то думаешь, что надо становиться человеком и тебе. После встречи с Роммом я многое пересмотрел в жизни. И я благодарен ему, что он потом пригласил меня в свой фильм «Девять дней одного года» и мы стали дружны.
Но вот я опять возвращаюсь к этим фотографиям, потому что это крайне важно… Посмотрите на эти глаза, закрытые очками (показывает на кадр из фильма «Солдаты»): эти глаза решили мою судьбу. Георгий Александрович Товстоногов, главный режиссер Большого Драматического театра в Ленинграде (сейчас в Петербурге), смотрел этот фильм. Он всегда ходил в окружении свиты. Он был замечательный режиссер и остроумный человек, но очень погруженный в творчество. И когда он смотрел этот фильм, спросил окружавших его: «Слушайте, что это за артист такой?» А эту роль я играл хорошо. Потому что был замечательный материал, и я решил, что ничего не буду играть, а буду «быть», то есть буду просто «жить» в кадре. И ничего не играл. И это возымело свое действие. Ему сказали: «Это артист Смоктуновский». «О, Свистуновский? Не знаю. А что он делал и где? Где я мог с ним встречаться?» Все сказали: «Не знаем, Георгий Александрович». — « Странное дело: мне кажется, что я его где-то видел, о чем-то с ним говорил, но, где и о чем, просто не помню». И так это бы и ушло, но Товстоногов ставил тогда спектакль «Идиот». У него был замечательный актер Патя Крымов[4]. Но тот вдруг заболел. Настолько, что должен был лечь в больницу на полгода. И идея поставить спектакль «Идиот» была, собственно, похоронена. И вот однажды Георгий Александрович Товстоногов на какой-то репетиции совсем другого произведения вдруг из зала заорал: «Глаза!» Все окружавшие его посмотрели на него и спросили: «Что — глаза, Георгий Александрович?» — «Глаза! У него его глаза!» — «У кого? Чьи глаза?» — «У того, вот, актера…Как вы назвали его? Свистуновский, Смоктуновский?.. Вот у него глаза князя Мышкина!» <...>
В труппе театра все знали, что придет человек с какими-то невероятными, прекрасными мышкинскими глазами. И вот когда я уже шел по коридору театра к кабинету Товстоногова, там собралась едва ли не вся труппа, которая должна была быть занята в этом спектакле. Все смотрели на мои глаза и шептали: «Боже мой, вот это глаза! Дал же Бог с такими глазами родиться! Остановитесь, дорогой, покажите мне! Ах, какие глаза!» Так, пока я дошел до кабинета Товстоногова, я от каждого человека все время слышал о своих «невероятных», «удивительных», «прекрасных», «божественных» глазах. Естественно, что с каждым последующим выявлением прелести и красоты моих глаз, они всё больше и больше открывались. Я зашел к секретарю (она сидела в первой комнатке, а потом через ее комнату я должен был пройти уже в кабинет к Георгию Александровичу), и эта маленькая, черненькая женщина, увидев мои глаза, воскликнула: «Гу! Глаза!» А потом говорит: «Сейчас… я доложу, что вы пришли, с глазами, что вы здесь». Затем я вошел в кабинет к Товстоногову, и первое, что он меня спросил, прежде чем сказать «здравствуйте»: «Что это, у вас всегда такие глаза?» Я говорю: «Да». Он: «Очень странно». И уже потом сказал: «Здравствуйте».
Мы очень много говорили. Короче говоря, он пригласил меня на эту роль, и она потом определила в моей жизни всё. Потому что, работая над этой ролью, я прошел такой трагический путь, потому что узнал, что надо не играть, а «быть», жить в образе, я пытался проникнуть во внутренний мир своего героя и найти дорогу к самому себе, познать самого себя. Оказывается, для актера это крайне необходимо.
Человек, который работает на сцене или снимается на экране (на маленьком, на большом — все равно), должен обязательно находить в каждом образе, в каждом характере самого себя. Во всяком случае на этом этапе времени, нашего времени, пока это самое большее, что может предложить актер зрителю: «жизнь человеческого духа», как говорил Станиславский.
Это был конец 1957 года, когда наше советское общество еще очень нуждалось в доброте, нуждалось в человеке. Очевидно, и момент времени, и мое попадание в эту роль, моя наивность, моя, в общем, честность и моя природная (извините, что я так скажу, но это действительно так) доброта — все эти качества хорошо легли на драматургию Достоевского. Надо сказать, что на первом спектакле зал был только наполовину заполнен. Это было в последний раз, когда в этом театре, у этого главного режиссера был не полный зал. На следущий спектакль уже невозможно было достать билетов; зал в финале неистовствовал — кричал, орал, люди вскакивали на кресла, а в течение всего спектакля была полная тишина. Если что-то и было слышно, так это тихое всхлипывание. Люди вытирали носы — не от простуды, а от того, что их коснулся гений Достоевского. Они приобщились к жизни удивительного персонажа — Льва Николаевича Мышкина.
<…>
Норильский театр — это самый северный театр в мире. Там я очень много играл: шесть—восемь ролей за год. В итоге у меня там было не то двадцать четыре, не то двадцать одна роль. Понимаете, это очень много. Но денег было мало настолько, что даже в летнее время, когда театр уходил в отпуск, мне не на что было купить билет, чтобы самолетом или пароходом по Енисею добраться до своего родного города Красноярска. И вот, смотрите, есть такая фотография из Норильска. Видите? Лето в Норильске. Правда, этот город такой, что, говорят, там в июне еще холодно, а в июле уже холодно, тем не менее, снега нет, а я хожу в лыжном костюме. Этот лыжный костюм знаменателен еще и тем, что потом, когда я уехал из Сталинграда в Москву (был такой идиотский шаг), я по испепеленной солнцем Москве ходил вот в этом костюме, потому что ни денег, ни белой свежей рубашки, что я очень люблю, у меня не было. Может быть, поэтому меня никуда не брали, потому что я приходил в шесть-семь театров Москвы и просил, чтобы меня взяли на работу артистом, а на меня смотрели (я был в этом костюме) и говорили: «Нет-нет-нет-нет, нам совершенно не нужны артисты, нет». Ну, я, наверное, действительно, никак не выглядел человеком, способным быть на сцене, поэтому меня нигде не брали. Правда, после того как я в Ленинграде уже сыграл Мышкина, не было, по-моему, театра, который бы не предлагал мне своих услуг. Был даже такой случай — страшный случай. В Центральном Театре Красной Армии работали режиссеры Давид Тункель и Владимир Канцель. Они меня тоже «смотрели». Потом, после просмотра (я им играл сцены Хлестакова, кусочки еще каких-то пьес, и играл неплохо), они сидели со скучными лицами, один из них курил трубку… Отнеслись они ко мне тогда плохо, сказали, что все, что я показываю, очень провинциально, совсем не интересно, тускло, что у них, мол, такие актеры есть и зачем им брать еще одного такого актера. И вот случилось нечто совершенно невероятное: меньше чем через год один из этих режиссеров был у меня на спектакле, видел моего князя Мышкина. Я уже сказал, что этот спектакль принимался зрителями в высшей степени бурно. Настолько, что мне не давали отдохнуть. Театр всегда ведет журнал, отмечая, сколько минут длятся аплодисменты, на сколько минут затянулся спектакль… Как вы думаете, сколько времени аплодировали люди после этого спектакля? На плохих спектаклях (я был иногда не в форме) — минут 15–17 аплодировали. Однажды засекли 32 минуты. После спектакля людям нужно было прийти в себя и они, вот, полчаса аплодировали. После спектакля актеры и режиссеры других театров заходили ко мне за кулисы, чтобы поблагодарить меня и познакомиться со мной. Это сейчас выглядит в моем изложении, может быть, немножечко хвастовством, но, право, я говорю то, что было, ничего не прибавляю. Так вот, вдруг приходит ко мне после спектакля Давид Тункель, один из тех режиссеров, которым я показывался в Москве, и говорит: «Ах, какая прелесть, как вы замечательно работаете, как прекрасно все это было!» Жмет мне руку. И я со всем своим наивом говорю ему: «А вы помните, вы говорили, что вот у вас есть такие актеры?..» Он восклицает: «Когда?» И я по глазам вижу, что он не помнит. Говорю: «Помните, я еще играл тогда кусочек из «Ревизора»… И вы с вашим приятелем, режиссером Канцелем, сказали, что все это провинциально, что это неинтересно, невыразительно, что у вас такие актеры есть…» Вдруг я вижу, как его лицо меняется, он становится такой красный-красный, и с ним случается удар. Его положили у меня в гримуборной на диван, мы вызвали театрального врача. Его привели в себя; все было нормально, но он так не ожидал во мне увидеть того, кого когда-то не взял, что не нашел в себе силы сознаться, что сердечный удар хватил его потому, что он, наконец-то, узнал, кого он тогда не взял. Он говорил: «Нет, вы знаете, у меня время от времени сердце хватает, а сегодня я переволновался на вашем спектакле…» Видите, как я иногда могу действовать на зрителя. Страшно! Как бы здесь самому не было страшно!
…Сейчас я вам покажу фотографии, которые вам многое откроют во мне. Раньше я был совсем худ. Действительно: невероятно худ. Как вешалка. Представляете? С таким-то ростом весить 52 килограмма! Вот фотография того времени (показывает): видите, какой я был худой. И поэтому я умел делать только смешные вещи. Я выходил на сцену, и люди уже хохотали, а я получал огромную радость от того, что вроде ничего не делаю, а люди ржут. Никаких усилий я не прилагал, просто выходил на сцену, и было мило, обаятельно, смешно. И мне казалось, что ничего более прекрасного на сцене делать нельзя. Я думал, что это и есть мое предназначение… Вот фотография, которую я искал. Это «Укрощение строптивой», где я играл слугу Бьонделло[5]. Самое поразительное, что эта роль послужила тому, что обо мне впервые написали в центральной прессе — в журнале «Театр». Заметка была маленькая, но для меня она была большой. Там говорилось, что спектакль, в общем, неплохой, но когда на сцену выходит актер Смоктуновский, мы по-настоящему понимаем, что жизнь прекрасна. И это действительно так. Когда я выходил, все хохотали и уже ждали, когда я выйду во второй и в третий раз… После, когда режиссер увидел это, он сделал так, что я почти не уходил со сцены, даже если по пьесе не требовалось моего присутствия. Так обнаружилось это мое умение, это «ничегонеделанье» на сцене. Ничего не делая, я продолжал жить в образе, жить жизнью своего персонажа. Потом я привнес эту толику юмора в свою самую большую роль — в князя Мышкина. <…>
Этот образ был решен так интересно, что он стал не только важнейшим этапом моей творческой биографии, но откровением в этом спектакле, да и во всем театральном сезоне — откровением тогдашней театральной жизни страны, потому что здесь открылись иные измерения актерского искусства, здесь актер ничего не играл, а просто на глазах жил, на глазах умирал… Этот замечательный человек, этот полубог (в первой редакции романа он и был наречен Достоевским именем «Христос» и только по настоянию издателя писатель отказался от столь прямой аналогии). И вот к концу спектакля эта прекрасная человеческая гармония рушилась, он оставался один на сцене (жаль, что у вас нет этих фотографий) и у него, так сказать, текли слюни… Словом, ушла гармония, ушел Бог, ушло Добро, на сцене оставалась «тварь дражайшая». Многие находили это жизненно верным, да и психологически настолько убедительным, естественным, что видели тут не театральную технику, а чуть ли не совпадение состояний и даже боялись за мое здоровье. Говорили: «Да он и в жизни идиот!» А когда им возражали: «Но ведь в первой половине спектакля он же светится, он же Бог!», скептики отвечали: «Ну, значит, он Бога играет очень хорошо, а в жизни он все-таки, наверное, идиот, потому что можно ли так правдиво, как в финале, сыграть идиота?!»
Георгий Александрович Товстоногов режиссировал спектакль в целом. А непосредственно со мной над ролью работала Роза Абрамовна Сирота. Вот она на фотографии: здесь мы друг друга обнимаем. А вот ее крупный снимок. Она — прекрасный режиссер и замечательный человек, но… с чудовищным характером. Она много раз предавала меня. Дело в том, что Георгий Александрович Товстоногов… (Извините, пожалуйста, несколько увлажнились глаза. Просто я человек эмоциональный, и нервы у меня сдают: чуть что, сразу душат эмоции, и я уже ничего не могу сказать. Где-то там, в пиджаке, у меня носовой платок, будьте добры, дайте мне его!..) Дело в том, что на протяжении всего времени, пока готовился спектакль, Георгий Александрович фактически отсутствовал. Я был предоставлен второму режиссеру, Розе Сироте, и она со мной возилась так же, как возились со мной все актеры и вообще все, кто был занят в спектакле. И все говорили мне: здесь делай это, здесь делай то… А я от такого способа подготовки роли уже лет пять как отказался, еще когда работал в Махачкале, в Норильске, в других театрах и, наверное, человечески и творчески созрел к иному роду работы над сценическим образом — к прослеживанию его внутренней жизни. <…>. А тут мне предлагали какие-то избитые приемы, какую-то театральную пошлость, против которой я, понятно, возражал. Я приходил домой, опять перелистывал Достоевского и ничего похожего на то, что мне предлагали в театре, у Федора Михайловича я не находил. Наоборот, он предлагал совсем другие человеческие измерения, и я должен был найти им сценическое воплощение. Но, очевидно, я еще был неопытен, чтобы убедить моих наставников в такого рода решениях. И я, упираясь, восстановил против себя весь театр, всю труппу. Никто со мной уже не здоровался и репетировать со мной не хотел, все отказывались, говоря, что я, мол, и в жизни больной. «Смотрите, мы говорим, а он нас даже не слышит!» Это потому, что я не хотел делать то, что мне предлагали, потому что мог сделать значительно лучше и интереснее. <…> Ни я, ни вся труппа не подозревали, что подобного рода поведением, занимая полярные творческие и жизненные позиции, мы решительно и глубоко расходились.
…Но как бы ни было трудно работать, на этом трагическом пути были и очень светлые стороны. Уже потому, что меня во всем поддерживала моя жена Суламифь Михайловна, моя милая, славная Соломка (я так ее зову). Когда я приходил к ней с репетиции и говорил, что ничего не получается, что все гадко, все скверно, что со мной не хотят репетировать и, наверное, ненавидят, обзывают меня «больным», «идиотом» и всё такое…, она говорила: «Ты затаись и делай все то, что ты хочешь делать». — «Если бы я знал, — говорил я, — что надо делать, я бы с удовольствием делал. Но я не знаю. К сожалению, Достоевского невозможно сделать на наработанных приемах. К нему надо подходить очень осторожно, иначе можно обжечься, потому что такая оголенность — духовная, душевная, — она за собой несет не только прекрасные высоты познания, но и опасность заблудиться, играть достоевщину, а не Достоевского (это разница)…»
Суламифь я встретил в Москве, когда приехал поступать в какой-нибудь театр. <...> Вот она, моя жена, моя Соломка, глава моего семейства (показывает фотографии). Видите, какая она серьезная. А здесь нужно было долго уговаривать ее, чтоб она улыбнулась. Вот она на моих съемках. Вот здесь все мое семейство: вот Машка моя прелестная (чудо—человек), вот мой Филипп. Обычная семья, но вместе с тем в этой обычности есть своя прелесть. Мы все просты и все достойны… во всяком случае, честны.
После моего успеха у Товстоногова последовало множество приглашений в кино. Например, на роль Гамлета. Говорят, это первая роль мирового репертуара. Наверное, так оно и есть, потому что там, действительно, есть чем жить и есть что играть. Но, право же, если будет позволительно это сказать, мой Гамлет «унаследовал» от Мышкина очень незначительную часть его огромной человечности. И только поэтому Гамлет у меня получился. Правда, был такой замечательный человек с парадоксальным умом, Бернард Шоу, который говорил, что за свою большую жизнь (а умер он, как вы помните, когда ему было за 90) он видел всё, кроме одного: «чтобы кто-то плохо играл Гамлета». Но, правда, он моего Гамлета не видел. Может быть, тогда бы он не сказал так. Тем не менее, ругать эту роль не буду, потому что она мне принесла много радости. Когда я начал работать над ней с Григорием Михайловичем Козинцевым, мы не сразу нашли общий язык: оказалось, что мы стояли совершенно на разных, можно сказать, противоположных позициях. Он ведь по своему образованию был художник. Его фильмы — такие, как «Пирогов», «Белинский», даже «Дон Кихот» (одна из лучших его работ), — были все какие-то детские… Правда, у него были такие фильмы, как «Юность Максима», «Возвращение Максима», «Выборгская сторона», но там они работали в паре: Леонид Трауберг и Григорий Козинцев, и всё окружение говорило, что это дело Трауберга, что Козинцев там просто-напросто поставлял актеров, не более того. Тем не менее я благодарен ему за то, что он пригласил меня (а что ему оставалось делать?). Он был как-то у меня на репетиции, когда я снимался в фильме «До будущей весны»[6]. Пришел какой-то человек (я даже не знал его в лицо), и когда я стал с режиссером спорить и ставить сцену так, как мне представлялось правильным, этот не знакомый мне человек как-то так, знаете ли, засопел. Потом, когда репетиция закончилась, и он увидел, что сцена, которая выстраивалась мною, действительно, получилась, Козинцев вдруг подошел ко мне и сказал: «Иннокентий Михайлович, можно вас на минутку?» Я говорю: «Да, конечно. Постойте, а вы кто?» Он принял это за шутку и захохотал: «Ха-ха-ха! Да вы еще и с юмором! Это очень хорошо!» Я не стал его разубеждать, но так и не знал, кто он такой. А он мне сказал: «Я хочу предложить вам роль. Только не пугайтесь! Я хочу предложить вам Гамлета». У него был такой высокий-высокий, почти женский голос. И, если бы ему еще приклеить усы, он очень бы походил на барона Мюнхгаузена. От барона Мюнхгаузена он мало чем отличался: тоже любил приврать… Так вот он предложил мне Гамлета. Чистосердечно говорю, дорогие, что до его предложения я эту великую пьесу, первую пьесу мирового репертуара… не читал. Не читал по той простой причине, что я смотрел в Москве и где-то на периферии (кажется, в Красноярске, когда был у тетки в гостях) спектакли, и пьеса мне тогда не понравилась: все друг друга убивают, ходит по сцене какой-то Гамлет, произносит какие-то слова, какие-то непонятные монологи, ходит так, как будто он окончил королевское хореографическое училище. В общем, читать пьесу не захотелось. А в Москве я смотрел, по-моему, Мишу Козакова и Евгения Самойлова[7]. Это было, извините, ужасно. И поэтому я никак не мог себя соотнести с подобного рода неживым персонажем. А он действительно производил впечатление неживого человека: какой-то ходульный, заумный. Чего он хочет, непонятно. Но когда Козинцев предложил мне эту роль, я прочитал пьесу и был поражен. Я читал и думал: как же это? То ли я в другом переводе это раньше слышал со сцены, то ли еще что-то. Пьеса производила впечатление живого организма и многое было в ней мне непонятно, до такой степени, что я сначала категорически отказался, и только моя жена заставила меня сниматься. Она сказала: «Хорошо, ты откажешься. Но это же первая роль мирового репертуара!» А я отказывался, потому что приходил на репетицию к Козинцеву и видел, что он не знает, что такое «быть». То есть повторялась та же самая история, что с Мышкиным: там я расходился с актерами, а здесь с режиссером. Но с актерами я еще как-то мог справиться, репетируя «Идиота», а с режиссером да еще в фильме, когда надо каждую смену выдавать, как уголек на гора, метраж!.. На маленьких репетициях я позволял себе быть самим собой. Говорил Козинцеву: «Нет, это не так. Извините, Григорий Михайлович, но это не так. А надо делать вот так и вот так»… Он говорит: «Ну, пожалуйста, сделайте так». Я делал. Он говорит: «Вот видите, как хорошо вы делали? Замечательно!» Тогда я говорил: «Ну простите, Григорий Михайлович, это делаю я, а мне бы хотелось узнать, чего хотите вы». Согласитесь, мои требования были вполне обоснованы. Ведь это крайне важно знать, какое мироощущение у режиссера, что он хочет сказать своим фильмом, этим великим персонажем, который пробил четыре сотни лет и пришел к нам очень современным, очень нашим человеком, борющимся со злом. Совершенно не владея английским языком, я обложился тогда пятью-шестью переводами и, сопоставляя их, один с другим, пытался дойти до оригинала, найти ту суть, которую хотел донести в этом монологе или в других Шекспир.
Это фотопроба (показывает). Видите, я искал грим. Здесь я еще с бородкой (конечно же, она была ни к чему). Потом я пригласил для домашних занятий Розу Сироту, того самого режиссера, с которой готовил в театре роль Мышкина. У меня было в запасе четыре месяца, пока фильм находился в подготовительном периоде, когда строились декорации, шились костюмы… Вы, конечно, видели этот фильм, потому что он прошел по всему миру и принес мне много радостных минут общения с прекрасным зрителем. Но, мне думается, фильм был бы лучше, если бы режиссер был ответственен не только перед материалом Шекспира, но и перед временем, которое диктовало совсем иные измерения этого персонажа. Пересмотрите этот фильм и вы увидите, что, кроме моих сцен, в нем смотреть нечего! Ведь там все позируют… Тем не менее Григория Михайловича Козинцева я сейчас вспоминаю добрым словом, хотя работать с ним мне больше не хотелось (а ко мне потом приходили с предложением сниматься в «Короле Лире»). <…>
Вот образ, исторический персонаж, который мне крайне дорог уже потому, что это единственная моя роль, которая вплотную подошла к князю Мышкину — царь Федор Иоаннович на сцене Малого театра. Когда я ушел из этого театра, его стали играть другие актеры, но не совсем так, как играл это я! Здесь нужны огромные человеческие, душевные, жизненные затраты. Нужно «забыть» о самом себе и жить лишь этим персонажем. Только тогда он может быть побежден. Это великая роль! Я опять позволяю себе такие выражения, такие высокие измерения, но что ж делать, если это было действительно так?! Этой ролью я обязан замечательному режиссеру Борису Ивановичу Равенских. <…>
Хочу обратить ваше внимание еще на одного персонажа, он представляется мне тоже значимым в моей мозаике образов и характеров. Я говорю об Иудушке Головлеве — Владимире Порфирьевиче Головлеве. Если пользоваться привычной театральной лексикой, то это ведь персонаж отрицательный. Плохой, просто гадкий человек. Кровопивец. Жаден, хитер, зол и все такое прочее. Но вот ведь какая петрушка: Салтыков-Щедрин так здорово изобразил его, так невероятно проник в суть русской души, что, я думаю, черты характера Головлева можно отыскать в любом человеке… <…>
А вот еще один персонаж, занимающий важное место в моей творческой жизни. Я говорю об одном из величайших человеческих эталонов культуры — о Моцарте. Конечно, я не похож на него, что говорить. Да мы, собственно, и не искали внешнего сходства. Важно было проследить суть взаимоотношений гения, то есть человека, который отмечен Богом, и человека, наделенного обычным талантом. Вот Моцарт, а вот Сальери. Это даже не конкретные личности. Это человеческие типы. Не случайно мы сегодня говорим, что у каждого Моцарта есть свой Сальери. Посмотрите, какие у Сальери глаза, когда он отравил своего друга Моцарта. Вот взаимоотношения: таланта с Богом музыки — Моцартом. Я слушал музыку Сальери. Конечно, по сравнению с музыкой Моцарта она слаба. Но только по отношению к Моцарту. А вообще это хорошая музыка, он талантливый человек, этот Сальери. Но не Моцарт! И этим всё сказано. Вот идут фотографии как бы в диалоге, когда уже Моцарт пьет вино с ядом. Вот Моцарт, вот Сальери. Вот Моцарт уже выпил яд и вот глаза Сальери. Видите, они уже меняются. Вот опять Моцарт — он играет свой реквием. Глаза Сальери. Посмотрите: что-то ведь новое в них есть, не правда ли? Продолжаем: Моцарт. И опять глаза Сальери! Да, такой может отравить… Так интересно было заниматься этим человековедением, жить в этом материале! Но, пожалуйста, не думайте, что это легко и просто. Здесь надо знать психологию человека; не только какого-то одного или другого конкретного человека. Надо знать вообще предмет психологии, надо знать внутреннюю структуру человека, его психофизический аппарат, чтобы, в общем, как-то взаимодействовать в этих совершенно разных психологических положениях. Собственно, в этом и заключается наша работа. И только тогда она оправдывает свои затраты (я не говорю о финансовых — это всё пустяк; тем более, что мы, артисты, получаем мало). Играть Сальери, я думаю, посложнее. Здесь уже нужно владеть собою, как йог. И в этом суть нашей работы. То есть требуется этакая подвижная нервная система, чтобы она отвечала на все требования драматургии… И надо привнести сюда время, чувство времени, понимание драматургии и вкус. К сожалению, не многие наши актеры этим обладают. <…>
Анна Гереб: У вас, по-моему, совсем нет ролей социального плана: скажем, рабочего или крестьянина, или идейного коммуниста… Одни музыканты… вообще интеллигенты. Чем это объясняется?
Смоктуновский: Друг мой, Аня, вы не совсем правы. Дело в том, что в двух фильмах[8] я сыграл самого Ленина — куда уж социальнее?! <…> Но вы, конечно, правы в том отношении, что у меня очень много исторических персонажей, таких, как Сальери, Моцарт, Чайковский… Сплошные композиторы. Тут я тоже играю композитора — Иоганна-Себастьяна Баха (показывает на фотографию, запечатлевшую сцену из спектакля МХАТа «Возможная встреча»). Я был когда-то музыкален, потом все это ушло. Я пошел в драматическое искусство и перестал развивать в себе слух и музыкальные способности. Но мне хорошо в театре уже потому, что здесь меня ценят, считают меня хорошим артистом, и какие-то вещи я делаю профессионально, но на не высоком уровне. А какие-то вещи… Вот, к примеру, я играю в спектакле «Эквус»… Играю психиатра, который лечит одного юношу. По-моему, эта роль хорошая. А вот играю Баха… <...>
Правда, есть среди сыгранных мною персонажей исторические личности другого плана — цари, короли, императоры… в общем, представители власть имущих. Чем это объяснить? Может быть, тем, что, приглашая меня, режиссеры знают, что в отличие от некоторых других актеров я значительно больше стремлюсь проникнуть в самого себя, а мне кажется, что, когда человек именно проникает или во всяком случае находит дорогу к самому себе — для выявления собственной сути — и когда он может пропустить через себя ту драматургию, того персонажа, которых ему предлагает режиссер, только тогда и получается живой и очень емкий образ.
А.Г.: Для вас все равно, где вы играете — в кино или в театре? Или вы ощущаете разницу?
И.С.: Разница лишь в способе доставки эмоций и мыслей до зрителя. Экран позволяет приблизиться к человеческим глазам, но с другой стороны, живой артист — это ведь, как вы понимаете, не белое полотно в темноте, не какая-то тень, а реальный человек. Вы видите, как он дышит, как он краснеет, как бледнеет. Вы дышите с ним одним воздухом… В этом тоже есть своя прелесть. И потом сама магия высвеченной сцены в темноте зрительного зала, и там что-то происходит… Это чудо! Неслучайно, когда на сцене происходит что-то по-настоящему злое, зрители совершенно замирают. Но добиться такого эффекта чрезвычайно трудно. Нужно потратить свои собственные клетки, свои нервы, надо изнасиловать свое сердце, чтобы оно повышенно работало там, где должно, а чтобы оно так работало, надо обязательно заставить печень выделять так называемый адреналин, который заставляет сердце биться в четыре раза быстрее, и тогда всё легко, всё просто, все вопросы решаются. Понимаете? А если печень не выделяет этого вещества, то, как ты ни пыжься, будет сплошная ложь. Поэтому я и говорю, что нужно не только очень хорошо знать самого себя, но и владеть самим собой. Только в этом случае актер, можно сказать, состоялся. Если этого нет, то таких, с позволения сказать, «актеров» очень много, их 95-97%, тогда как только 3–5% таких актеров, о которых, когда их видишь, думаешь: «Боже мой, какое чудо! Вот это да!..»
А.Г.: Вы можете назвать таких?
И.С.: Таких актеров мало, но назвать могу. Такой, например, Пол Скофилд, удивительный актер. Такой была Бетт Дэвис. Такой актриса, как ни странно, была — в каких-то вещах — Мэрилин Монро. Затем… Прекрасный американский актер Джек Николсон, особенно в «Пролетая над гнездом кукушки». Он там и краснеет, и бледнеет, и всё такое… в общем, живет, и это замечательно! Такой сейчас Жерар Депардье, французский актер.
А.Г.: Вы играли вместе с Марчелло Мастроянни[9]…
И.С.: Мастроянни — удивительный актер!
А.Г.: Как вы работали вместе?
И С.: Знаете, нам было удобно, легко. Мы с ним говорили… Он говорил на английском языке… нет, на итальянском, а я говорил что-то, по-моему, по-русски… или по-английски?.. я сейчас уже не помню… В любом случае мы очень хорошо понимали друг друга. Настолько, что, когда потом он приехал к нам в Россию на премьеру фильма, он подошел ко мне и сказал: «Здравствуй, Иннокентий, я соскучился по твоей деликатности». Он замечательный человек. В жизни такой простой, немножечко вроде как дремлющий человек. Добрый, славный. Мне с ним было легко работать.
А еще я снимался в фильме «Осада Венеции»[10] с замечательной американской актрисой Изабеллой Росселлини. Ах, какая прелесть! Чудо! Мне по фильму надо было говорить по-английски, и одна фраза у меня не клеилась, я никак не мог ее выговорить. И Изабелла, стоя — по мизансцене — в полуоборот к камере, потихонечку мне подсказывала. Причем я ее не просил об этом… А потом, когда я уже выговорил эту фразу и дубль сняли, она сказала: «Ух, Иннокентий…» Сама она работает, как мужик — такая работящая и очень точная. Прекрасная актриса!
Кстати, был случай, когда я чуть не снялся в венгерском фильме. Режиссер Хусарик пригласил меня на главную роль в фильме «Чонтвари»… Я не знаю причину, а выдумывать не хочу, почему я все-таки не был потом утвержден, хотя мы с Золтаном Хусариком провели хорошую пробу, она была, по-моему, достойной, и партнерша у меня была хорошая. Но вот не случилось[11]. Ничего! Может быть, сейчас, когда вы уже стали более свободны от нас, а мы от вас, когда вы уже освободились от прессинга со стороны русских, у вас найдется какой-нибудь смелый режиссер или продюсер, который скажет: «Слушайте, там в России, по-моему, есть неплохой актер, этот, как его… на букву «С»… Смоктуновский, что ли?..» и пригласит. И тогда ваши кинематографисты получат этого замечательного, с отвратительным характером — и в работе и в жизни — артиста Смоктуновского.
8 октября 1993 года, Будапешт
1. Книга вышла двумя изданиями уже после смерти артиста (1-е изд.: М., «Алгоритм», 1999, серия «О времени и о себе»; 2-е: М., «Алгоритм», 2000, серия «Легенды советского кино») (здесь и далее — прим. ред.).
2. «Солдаты» (1956, реж. Александр Иванов).
3. «Как он лгал ее мужу» (1957, реж. Татьяна Березанцева). И.Смоктуновский играет в этом фильме Генри.
4. Пантелеймон Крымов — в 1951–1958 годах актер Ленинградского театра им. Ленинского Комсомола, где с 1950-го по 1956-й год главным режиссером был Г.А.Товстоногов. Со Смоктуновским Крымов снимался в фильме Михаила Дубсона «Шторм» (1957).
5. Постановка Сталинградского драматического театра имени М.Горького, осуществленная в 1953 году.
6. «До будущей весны» (1960, реж. Виктор Соколов). Смоктуновский играл в этом фильме учителя.
7. В спектакле Московского театра имени Маяковского, поставленном в 1954 году Николаем Охлопковым, Гамлета сначала играл Евгений Самойлов, а в 1956 году введен Михаил Козаков.
8. «На одной планете» (1965, реж. Илья Ольшвангер) и «Первый посетитель» (1965, реж. Леонид Квинихидзе).
9. Имеется в виду фильм Никиты Михалкова «Очи черные» (1987, Италия), в котором Смоктуновский сыграл небольшую роль губернатора Модеста Петровича.
10. «Осада Венеции» (1991, Россия-Италия, реж. Джорджо Феррара).
11. Подробнее о не сыгранной Смоктуновским заглавной роли в фильме Золтана Хусарика см.: Г е р е б А н н а. Дело Чонтвари. /Перевод с венг. и предисловие А.Трошина. — «Экран и сцена», 9–16 декабря 1993 года, с. 10.
Информацию о возможности приобретения номера журнала с полной версией этой статьи можно найти здесь. |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.