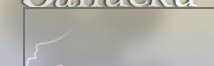|
 |
|
Федор ХИТРУК
«История одного преступления», 1961–1962
К концу 50-х годов я стал всерьез готовиться к самостоятельной постановке фильма. Почувствовал себя созревшим. Режиссером я мог бы стать и раньше—в нашей студии почти все они вышли из мультипликаторов, так что мне это было как бы предначертано. Я даже засиделся: в 44 года переходить в режиссуру уже несколько поздновато.
Почему я так долго тянул? Во-первых, мне нравилась профессия аниматора. К тому времени я начал по-настоящему вникать в ее глубинный смысл и многое открывать для себя,—особенно после того, как стал обучать этой профессии других. Обычно так оно и бывает. Есть даже шутка на сей счет: «Первый раз объяснил—не поняли, второй раз объяснил—опять не поняли, в третий раз объяснил—сам понял…».
Еще одна причина, по которой я до той поры не стремился в режиссуру: не было идеи, способной подвигнуть меня на столь кардинальный шаг. По моим тогдашним понятиям приниматься за постановку фильма можно было, только имея в замысле настоящую «бомбу»—нечто, могущее поразить зрителей. Подобный максимализм сидит, вероятно, в каждом начинающем художнике.
И вот такая идея пришла. Сюжет не нужно было придумывать—я буквально выстрадал его, попав однажды сам в положение моего будущего героя Василия Васильевича Мамина. В то время я работал дома, а проживали мы в комнатке на втором этаже, с окнами во двор. На этом дворе каждое утро две дворничихи затевали между собой перебранку, вполне достаточную, чтобы свести любого с ума. Вдобавок одна из них выставляла у себя на подоконнике радиолу и запускала на предельную громкость грампластинку с единственной песенкой, из которой я помню только фразу: «Что-то я тебя, корова, толком не пойму».. Никакие просьбы кричать потише или, хотя бы, сменить пластинку, не действовали. Закон был на их стороне: с 7 до 23 часов шуметь не запрещалось.
Так родилась мысль сделать фильм о шумовом терроре. Я написал (вернее, нарисовал) сценарий и даже придумал ему название: «Ни сна, ни отдыха». Сценарий получился слабый, это я понял сам. Но тема саднила, как зубная боль. Тогда редакторы студии направили меня к опытнейшему драматургу Михаилу Давыдовичу Вольпину. Замысел заинтересовал его—оказалось, М.Д. тоже пострадал от шумовых атак. Прочитав мое сочинение, он заявил: «здесь не хватает убийства». Профессиональное чутье сразу подсказало ему нужный ход. Через неделю я получил совершенно новый сценарий под названием «История одного преступления»—именно такой, как я хотел. Сейчас, спустя 40 лет, я еще раз воздаю благодарную память Михаилу Вольпину, поистине сценаристу Божьей милостью.
Не скажу, что я без колебаний решился на переход в режиссуру. Многие мои товарищи, искренне желавшие мне добра, предупреждали: «Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе». Среди аниматоров я действительно считался одним из первых, а что ждет меня на новом поприще? Но сценарий был утвержден, картина включена в план и мне ничего не оставалось, как нырнуть в этот омут. Соблазн был все же велик.
Дело в том, что помимо самой темы, меня в этой картине привлекали и чисто формальные идеи, которые я вынашивал еще в бытность свою аниматором, но по вполне понятным причинам не мог реализовать. Теперь такая возможность открывалась.
Хотелось испробовать прием полиэкранного действия, при котором в кадре могло бы происходить одновременно несколько событий. Например, когда наш герой укладывается спать, на него со всех сторон обрушивается лавина шумов: у соседей слева начнется буйное пиршество, справа разразится семейный скандал, а наверху загремит во всю мочь квадрофоническая музыка. Чтобы показать всех вместе, мы решили разделить экран на части и разыграть в них эти сцены параллельно.
Следующий прием—предельный лаконизм. В кадре присутствует только то, без чего нельзя обойтись. Сцена, в которой Василий Васильевич собирается идти увещевать шумных соседей, выглядит так: В.В. сидит в ночной пижаме, а вскакивает уже полностью одетый, последним движением затягивая узел галстука. Процесс одевания пропущен: по логике вещей зрители должны сами довообразить его. Далее В.В. поднимается по лестнице на верхний этаж. Сначала мы честно нарисовали его идущим по этой лестнице. Затем стали рассуждать: зачем изображать перила, если по движению персонажа о них и так можно догадаться? Убрали перила. Потом попробовали устранить ступени, а с ними и всю лестницу. И получилось даже интереснее: В.В. вполне убедительно прошагал по пустому пространству. Мы обнаружили, что скупость средств может придать игре дополнительный эффект.
Впрочем, то было не наше открытие. Как раз в это время в Москве гастролировал знаменитый мим Марсель Марсо—у него мы подглядели походку человека по воображаемой лестнице. Потом, побывав в Чехословакии, я увидел в одном из ателье пражской мультстудии плакат: «Минимум средств—максимум выразительности». Такой девиз мы вывесили и у себя в группе. Сейчас все это кажется трюизмом, давно известными истинами, но тогда многое было для нас в новинку. Мы по-детски радовались, когда страшно трудоемкую сцену—массовку в метро, где толпа пассажиров садится в вагоны,—удалось решить самым лаконичным способом: неподвижную толпу приклеили к поезду и тот, уезжая, как бы слизнул ее с перрона. Радовались тому, что нашли неожиданно простое решение, и оно оказалось наиболее остроумным.
На мой взгляд, остроумие (как и природа юмора вообще) это—неожиданно краткий способ постижения истины и неожиданно простое ее доказательство. По существующей легенде Архимед дико хохотал, когда, совершив великое открытие, с криками «Эврика!» выскочил из ванны. Уверен, что Ньютон тоже хохотал, когда ему на голову упало яблоко, и в результате был открыт закон всемирного тяготения. Можно еще вспомнить Гордиев узел и Колумбово яйцо, как яркий пример остроумия.
<…>
Работа над этим фильмом явилась для нас открытием неизведанных сторон анимации, но одновременно и испытанием самих себя: ведь все мы были тогда дебютантами. Художник-постановщик и оператор еще заканчивали обучение во ВГИКе (эта картина была их дипломной работой), аниматоры—недавние выпускники студийных курсов, сам я тоже оказался в совершенно новой для себя роли. В этом заключалась трудность, но были и свои преимущества: многого мы достигли именно благодаря тому, что не знали, что это против правил или вообще невозможно.
Те, кто работал тогда со мной, или навещал нас (как, например, Юрий Норштейн) позднее говорили об удивительной творческой атмосфере, царившей в нашей группе. Наверно, так оно и было, только я этого не замечал. Для меня весь этот период был сплошным страданием уже с первых дней, когда мы всей группой мучительно искали типаж главного героя. Почти каждая сцена вызывала во мне желание поправить или вовсе переделать ее Я чувствовал себя—и был на самом деле—занудой, истязавшим всех своими придирками и сомнениями. Думаю, никто из нас не знал, что выйдет из нашей картины, хотя с самого начала все мы были настроены на то, чтобы сделать «бомбу». Не меньше! Отсюда и возникала такая нервозность, придирчивость к каждому кадру. Вот выдержки из «Зеленой тетради»—дневника, который я начал вести в то время:
<…>
«Каникулы Бонифация»
Мы заканчивали «Топтыжку», я уже думал о дальнейшей работе, но ничего заразительного не находилось. Как-то, освобождая свой стол для следующей съемочной группы, я нашел в одном из ящиков, среди пустых бутылок (непременного остатка после каждого фильма) пару листков машинописного текста, и прежде, чем выкинуть их, прочитал несколько строк. Меня привлекла реплика, сказанная директором цирка: «Подумать только—я и забыл, что у львов тоже бывают бабушки!». Фраза зацепила парадоксальной, хотя и очень простой мыслью: в природе на самом деле все имеет своих бабушек—в том числе и львы, и даже деревья. В таком аспекте я еще не смотрел на жизнь.
То была сказка чешского писателя Милоша Мацоурека «Бонифаций и его родня». В ней говорится, как лев, работавший в цирке, отправился в отпуск, но вместо отдыха целыми днями давал представление детям. «Какая замечательная вещь каникулы!»—восклицает он в конце. В этой ситуации было много узнаваемого: художник не знает усталости, если видит, какую радость приносит детям. Так что этот фильм был в некоторой степени автобиографичен.
Начиная с «Бонифация» я стал по-новому разрабатывать режиссерский сценарий. Сюжет я разбил на эпизоды в виде отдельных аттракционов, дав каждому краткое название—своего рода «рыбье слово»: «Парад алле», «Смертельный номер», «Прогулка по городу» и т.д. Затем вычертил на большом листе шкалу посекундного расчета, определил длину эпизодов и акцентные места. Цветными карандашами были обозначены «линии настроения»—переходы эмоционального состояния.
<…>
Информацию о возможности приобретения номера журнала с полной версией этой статьи можно найти здесь.
|
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.