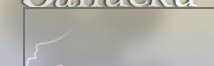|
 |
|
Евгений ДОБРЕНКО
В гостиной—штофные обои,
Портреты дедов на стенах...
А.С.Пушкин
«Внуки Суворова, дети Чапаева»
Биография относится к индивидуальной жизни так же, как история к социальному прошлому: она использует опыт в качестве материала для нарратива. Но если в истории подобная деперсонализация не только допустима, но неизбежна (в конце концов, история значима своей надиндивидуальностью), то в биографии она противоречит, казалось бы, самой природе индивидуализирующего дискурса. В самом понятии «биография» заключен конфликт между жизнью (био) и ее описанием (графия). Конфликт этот традиционно снимается посредством подмены первого вторым: биографический дискурс работает тем более успешно, чем менее собственно прожитого опыта остается в произведенном им тексте. Эта операция по захвату и нейтрализации опыта направлена прежде всего на уничтожение альтернативных техник (жизне)описания (подобно тому, как конкурирующие исторические доктрины и описания одних и тех же событий прошлого направлены не столько на утверждение или развенчание тех или иных исторических фактов, сколько на уничтожение самих альтернативных исторических дискурсов). Биография—это арест персонажа, операция по нейтрализации и инструментализации его жизненного опыта (который, лишь став биографией, имеет прагматический потенциал). Чем политически актуальнее персонаж, тем неизбежнее его «биографические» изоляция и арест. Помещенный в биографическую «одиночную камеру» объект проходит через полную дереализацию. Он буквально платит собственной жизнью за то, чтобы остаться «в живых» после смерти и функционировать в качестве продукта «описания».
Метажанром сталинского кино был не историко-революционный фильм (короткий расцвет которого пришелся на середину 1930-х годов), но фильм именно биографический. В центре этих биографий могли оказаться вожди революции и цари, деятели «национально-освободительных движений» и лидеры «народных восстаний», писатели и композиторы, ученые и военачальники. В послевоенные годы биографический фильм занял практически монопольное положениена советском экране. Почему советский исторический фильм неизменно превращался в биографию? Почему именно она заняла ведущее место среди жанров исторического нарратива? Каковы, наконец, природа и функции биографии в сталинском политико-эстетическом проекте? Для ответов на эти вопросы обратимся к наиболее состоявшейся биографической серии в сталинском кино—фильмам о военачальниках (полководцах и флотоводцах). В отличие от фильмов о деятелях науки, искусства, культуры, заполонивших экран после войны, эта серия началась в 1938 году «Александром Невским» Сергея Эйзенштейна—фильмом, который задавал новый биографический канон. В отличие от картин о революционерах и народных вождях, сошедших с экранов еще накануне войны, эта серия процветала как перед войной («Минин и Пожарский» (1939) и «Суворов» (1940) Всеволода Пудовкина; «Богдан Хмельницкий» Игоря Савченко (1941)), так и во время и после войны—вплоть до самой смерти Сталина («Кутузов» Владимира Петрова (1944); «Адмирал Нахимов» Всеволода Пудовкина (1945-46); «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы» Михаила Ромма (1953)).
Военно-биографические фильмы обычно рассматривались почти исключительно в политико-пропагандистской перспективе: действительно, резкие смены (гео)политических приоритетов оказали на них наибольшее воздействие—антинемецкая риторика неожиданно сменилась на антипольскую (в результате прошедший с огромным успехом «Александр Невский» исчез с экранов, замененный на «Минина и Пожарского» и «Богдана Хмельницкого»), риторика «войны на территории противника» сменилась реалиями поражений начального периода войны (так на смену «Суворову» пришел «Кутузов»), а вчерашние союзники неожиданно стали врагами в холодной войне (здесь на выручку пришли флотоводцы Нахимов и Ушаков). Очевидно, что в отличие от «царской» и «народной» серий, в центре которых была прежде всего внутриполитическая проблематика, основой военной серии оказалась геополитика (именно в этих категориях XIX века мыслило сталинское кино).
Ментальность осажденной крепости и «теория заговора», глубоко укорененные в российской политической культуре, обусловили расцвет этого «внешнеполитического» дискурса.Военно-биографический фильм стал единственной площадкой для визуализации геополитических фантазий и фобий сталинизма. Одновременно жанр является и наиболее подходящим для анализа техник политических манипуляций этими фантазиями и фобиями.
Стоит иметь в виду, что в центре производства жанра стояли крупнейшие мастера советского и мирового кино Сергей Эйзенштейн и Всеволод Пудовкин, было привлечено немало ярких фигур—от бывшего лидера формалистов Виктора Шкловского до любимого сталинского историка, академика Евгения Тарле. На протяжении многих—и таких разных!—лет жанр военно-биографического фильма претерпел немало изменений, отнюдь не только политических, но именно структурных. Поскольку же фильмы эти были прямо завязаны на (гео)политику, их жанровые аспекты вообще никогда всерьез не обсуждались. Между тем действительно политическое (а не сиюминутно прагматическое) содержание этих картин невозможно без понимания их жанровой динамики.
Трансформации советского биографического фильма начинаются с персонажа наполовину сказочного—полуполководца, полусвятого Александра Невского, с эффективной попытки перегонки мифа в историю, а заканчиваются—перегонкой истории в миф. Дело не столько в содержании 20 этой мифологии, на глазах превращаемой в респектабельный исторический нарратив, сколько в самом механизме, порождающем и обеспечивающем функционирование этих биографических визуализированных нарративов.
Самое их присутствие в социальном медиуме легитимирует, продвигает и делает легко усваиваемой главную биографию—биографию вождя. Биографический фильм—это настоящая машина по перегонке мифа в историю и истории в миф. В ее сообщающихся сосудах перетекает политическое «содержание» сталинизма.
До выхода на экраны «Александра Невского» культовым советским фильмом был «Чапаев». Им была заложена традиция мифологизации исторической биографии (в русле этой традиции пытался впоследствии двигаться Пудовкин в «Суворове» и в первой версии «Адмирала Нахимова»), в основе которой—индивидуальное своеобразие персонажа, его «народность». Традиция эта была решительно сломлена Эйзенштейном: в «Александре Невском» он пошел на историзацию мифа, воскресив традицию эпического кино 1920-х годов. Подхваченная в «Минине и Пожарском», «Богдане Хмельницком», а позже усиленная во второй редакции «Адмирала Нахимова» и фильмах об Ушакове, эта традиция, в том виде, в каком она возродилась в конце 30-х годов, очень мало напоминала о «Броненосце “Потемкине”», «Потомке Чингисхана» или «Арсенале».
История советского биографического фильма—это история невстречи фильма с биографией. В картине Эйзенштейна Александр Невский не столько личность, сколько чистая функция геополитического мифа, персонифицированная в полусказочном князе XIII века. В «Минине и Пожарском» и «Богдане Хмельницком» персонажи—также функции исторического мифа, но функции деперсонифицированные. Это, скорее, движущиеся монументы, «говорящие памятники». На первом плане здесь стоят не столько биографии персонажей, сколько исторические события, в которых герои функционируют. В «Суворове» и «Кутузове», напротив, на первом плане именно личности полководцев—личности настолько яркие, что, как в случае с Суворовым, сами события, в которых они участвуют, превращаются в фон и теряют всякую релевантность, если оценивать их «историческую прогрессивность». Наконец, в фильмах о флотоводцах Нахимове и Ушакове герои возвращаются в изначальное состояние функции откровенно аллюзивного геополитического мифа, они приходят, но с обратной стороны, к исходной точке—«Александру Невскому». Это не простой возврат: вместо персонификации и историзации полумифического персонажа здесь происходит деперсонификация реальных исторических деятелей, вместо историзации мифа—историзация современности.
Такая динамика жанра не является сколько-нибудь случайной, как неслучайным был набор персонажей этих картин. Константин Симонов вспоминал: Сталин «ничего так не программировал последовательно и планомерно,—как будущие кинофильмы, и программа эта была связана с современными политическими задачами, хотя фильмы, которые он программировал, были почти всегда, если не всегда, историческими. <...> Это можно проследить по выдвинутым им для кино фигурам: Александр Невский, Суворов, Кутузов, Ушаков, Нахимов. Причем показательно, что в разгар войны при учреждении орденов Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова как орденов полководческих на первое место были поставлены не те, кто больше остался в народной памяти—Кутузов и Нахимов, а те, кто вел войну и одерживал блистательные победы на рубежах и за рубежами России»[1].
Это упоминание об орденах позволяет поставить названные фильмы в несколько неожиданный контекст—в контекст истории советской фалеристики. Дело в том, что нет ни одного советского ордена (а практически все они были введены во время войны), которому не соответствовал бы поставленный фильм. И, наоборот: практически все полко- (флото-)водческие фильмы соответствуют орденам. Ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского были введены в июле 1942 г.—в самый критический момент войны. Орден Богдана Хмельницкого—после победы на Курской дуге, накануне освобождения Украины (во второй половине 1943 г.). В ноябре 1943 г. ввели один из самых популярных орденов—орден Славы (в годы войны им было награждено около миллиона человек), который до самой публикации Указа должен был называться орденом Багратиона[2]. В том же 1943 г. были введены флотоводческие ордена—Ушакова и Нахимова. Из так никогда и не осуществленных наградных проектов военных лет—орден Дениса Давыдова (для награждения партизан), орден Николая Пирогова (офицераммедикам), для гражданских лиц—ордена Михаила Ломоносова, Чернышевского, Павлова, Менделеева. Итак, практически все фалеристические проекты были именными (исключение составляют лишь орден Победы и орден Славы, а также медали, поименованные названиями обороняемых либо освобождаемых городов).
Стоит отметить, что каждый орден носил на себе печать своего имени.
Так, орден Суворова присуждался военачальникам за победу, одержанную меньшими силами над численно превосходящим противником (в соответствии с суворовским афоризмом: «Врага бьют не числом, а умением»). А орден Кутузова—за хорошую организацию вынужденного отхода крупных соединений (отступления) с нанесением контрударов противнику и выводом своих войск на новые рубежи с малыми потерями. Орден же Александра Невского присуждался военачальникам за проявленную инициативу по выбору удачного момента для внезапного, смелого и успешного нападения на врага и нанесения ему крупного поражения с малыми потерями для своих войск. Сюжеты фильмов оказывались, таким образом, своеобразными историческими иллюстрациями к орденам. Но связь с кино была иногда и совершенно прямой. Так, в ходе работы над орденом Александра Невского оказалось, что не существует прижизненного портрета былинного полководца, и для ордена использовался профиль... Николая Черкасова из фильма Эйзенштейна[3]. А идея ордена Богдана Хмельницкого и вовсе принадлежала Александру Довженко.
Во время войны, когда вводились ордена, советский воин должен был восприниматься таким, каким он был запечатлен в известной подписи Самуила Маршака к популярному тогда плакату:
Бьемся мы здорово,
Рубим отчаянно,
Внуки Суворова,
Дети Чапаева!
За какие-то несколько лет расцвета советского исторического фильма в конце 30-х годов «дети Чапаева» превратились во «внуков Суворова». Это стремительное расширение родословной привело к тому, что советский воин периода Великой Отечественной войны оказывается куда ближе к Суворову, чем к Чапаеву. В своем докладе по случаю 24-ой годовщины Октябрьской революции 6 ноября 1941 года Сталин коснулся темы «национальной гордости» представителей «великой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!»[4] На другой день в речи на Красной площади, напутствуя войска, уходящие на защиту Москвы, Сталин заключал: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков—Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова»[5]. Обращает на себя внимание не только набор имен полководцев, как будто списанный прямо с тематических планов советского кинопроизводства и введенных затем орденов, но и то, что в этом наборе имен нет ни одного, которое ассоциировалось бы с советской эпохой. Это полностью дореволюционный героический пантеон. Ирония состоит в том, что к четвертьвековому юбилею Революции (которому и были посвящены доклад и речь Сталина) сама революция оказывается как бы «пропущенной», исторически нерелевантной. Вчерашние «дети Чапаева» (буквально: поколение, игравшее «в Чапаева» в середине 30-х, и приняло на себя самый тяжелый удар) оказались теперь Чапаеву фактически внуками, а детьми—Суворову (всегда обращающемуся к своим солдатам со словами «Дети мои»).
Советское историзирующее искусство решало задачу приведения к единству, по крайней мере, трех взаимоисключающих конструкций: социалистической идеологии, национального государства и империи. Национальное государство, будучи продуктом буржуазной революции, противоречило социалистической идеологии и было несовместимо с империей; империя, в свою очередь, оставаясь рудиментом феодализма, противоречила самой сути национального государства, не говоря уже о социалистической идеологии; наконец, последняя (именно как идеология!) рождалась как инструмент разрушения всякого государства и в своем интернационализме была прямой противоположностью как национализму, так и империализму.
Задача советского историзирующего искусства сводилась к гармонизации этих компонентов и их легитимации, что обрекало его на заведомую межеумочность, но в то же время придавало ему драматизм и внутренний сюжет.
В нем одно противоречило другому: одни и те же персонажи были «народными героями» и... «угнетателями народа», выражали «национальные интересы» и одновременно... их «предавали». Были «внуками Суворова», который участвовал в разгроме Пугачева и подавлении национально-освободительной борьбы, и... «детьми Чапаева», героя гражданской войны, в ходе которой увенчались победой как «революционное дело Пугачева», так и «национально-освободительное движение».
Понять взаимосвязи этих нестыкующихся конструкций мы попытаемся через рассмотрение связи исторического жанра с биографическим: в советских условиях исторический фильм (как и роман) мыслился в категориях биографического жанра. Здесь, как утверждала кинокритика тех лет, «черты биографии народа раскрываются в образах величественной мощи и красоты»[6]. «Биография народа»—«внуков Суворова, детей Чапаева»—это идеологическая жатва, заложенная в зернах индивидуальных биографий великих полководцев.
Но что же, собственно, в этих фильмах биографического? Как заметил Г.Винокур, «исторический факт (событие и т.п.), для того чтобы стать фактом биографическим, должен в той или иной форме быть пережит данной личностью... становясь предметом переживания, исторический факт получает биографический смысл»[7]. Сфера переживаний совпадает со «сферой духовного опыта», а «это и в самом деле есть та сфера личной жизни, где мы получаем право говорить о личной жизни как творчестве. Личное здесь—словно художник, который лепит и чеканит в форме переживаний свою жизнь из метерьяла окружающей действительности. Пережить что-либо—значит, сделать соответствующее явление событием своей личной жизни»[8].
В этих же фильмах персонажи ничего не переживают. Они сами должны стать предметом переживаний. Они сами—«исторический факт», его производное и функция; они—медиум, через который этот «факт» себя манифестирует. Будучи бессубъектными (т.е. не личностями, но—функциями), они не имеют биографий и духовного опыта. Однако для того, чтобы превратиться в «факты духовного опыта» зрителя, они должны прежде эмансипироваться.
Иначе говоря, задача состоит не в том, чтобы Разин был личностью, но в том, чтобы он донес до зрителя идеологическое сообщение (этого можно достичь и без индивидуализации). Иван Грозный стал частью зрительского опыта, поскольку Эйзенштейн сместил задачу и приблизился к индивидуализации персонажа, тогда как Александр Невский—не только не стал индивидуальностью, но остался идеологической функцией по самому авторскому замыслу. Будучи чистой функцией, он не может обладать биографией. Глубокое своеобразие «биографизма» «Александра Невского» (и в той или иной мере всей биографической серии, в основе которой он находился) проистекало из самой художественной задачи, которую решал здесь режиссер.
Невский не «переживает» Ледовое побоище. В фокусе фильма не он и не «побоище». Как сказал сам Эйзенштейн, «наша тема—патриотизм».
Герои и события—лишь функции этой «темы». У этих героев вообще нет личной жизни. Она им не нужна, она бы им только мешала. Герой Эйзенштейна не «лепит свою жизнь», но вообще не является субъектом (а тем более не субъектом «творчества»!). Он сам является «матерьялом окружающей действительности».
<…>
«Александр Невский» занимает ключевое место в истории советского историко-биографического фильма. В плане иконографии главного героя этот фильм может быть отнесен к «царской» серии. Как и всякая картина этой серии, он говорит о «народном» царе (в данном случае—князе). Славянофильская идея «народной монархии» основана на единстве вождя и народа, национальном единстве и солидарности, и тем самым противостоит классовому подходу. Эйзенштейн возвел образ Александра Невского к образу Петра. На то, что «вздыбившийся конь под Александром... ассоциируется с фальконэтовским памятником Петру», обратили внимание критики еще в конце 30-х[23]. Но и этого Эйзенштейну показалось мало. Он специально разъясняет, что «недаром Петр I, завершавший веками спустя программу гениального провидца XIII века, именно его кости и прах перевез на место постройки будущего Петербурга, как бы солидаризуясь с той линией, которую зачинал князь Александр Невский»[24]. С другой стороны, режиссер превратил Александра, князя, уже прославившегося своей победой над шведами, чуть ли не в смерда, живущего, как простой рыбак, что, как указывали все историки-консультанты, было совершенно невозможным искажением «исторической правды» («утрированный “мужицкий”», «простолюдинный» образ князя, к тому времени уже прославленного великой победой на Неве над шведами, исторически не правдив»[25]). Тем не менее, Эйзенштейн проявил поистине большевистскую смелость в обращении с несуществующей историей (и, как оказалось позже, риск был вполне оправдан).
Таким образом, «Александр Невский» находится на перекрестке всех историко-биографических серий—«народной», «царской» и «полководческой». Если в «Александре Невском» Эйзенштейн выступает зачинателем традиции советского биографического фильма, то «Иваном Грозным» он завершает царскую серию. Интерес режиссера к «чистой истории» исследователи объясняют по-разному. Интересна интерпретация этого вопроса Ольгой Юмашевой как перехода от «коллективного сознательного» («Стачка», «Броненосец “Потемкин”», «Октябрь»)—к «коллективному бессознательному» (в «Александре Невском»)[26], которая позволяет осознать причины обращения режиссера к программному мифологизму.
Ключевую для понимания «Александра Невского» статью «Патриотизм—наша тема» Эйзенштейн начинает со странного, на первый взгляд, противопоставления летописи и остатков материальной культуры той эпохи. Летописи рассказывают о «святом» XIII века: его «телесном благолепии», его «премудрости Соломоновой» и «силе Самсоновой», «гласе его яко труба» и т.д. Всему этому верить, конечно, не следует. Но что еще осталось от той эпохи? «Обломки мечей, один шлем да пара кольчуг». И здесь Эйзенштейн повторяет вслед за художником Суриковым: «Камням я верил, а не книгам». Чем объясняется подобный выбор? Не тем ли, что «камни» куда легче «читать»? В них можно «вчитывать» все, что угодно (в том числе и переиначенную летопись). Уленбрух утверждает, что Эйзенштейн столкнулся в «Александре Невском» с той же проблемой, что и Вагнер (к постановке «Валькирии» которого он обратится после «Александра Невского»),—«невозможностью совмещения мифа и истории в рамках произведения искусства»[27].
Шкловский заметил, что именно здесь лежит нервный центр фильма, но не захотел увидеть в этом проблемы, полагая, что «в эпосе есть правда. Ее историк должен вскрыть», и присягая в верности Эйзенштейну («Я считаю себя рядовымвойска, сражающегося под Потылихой летом на асфальтовом льду, и стою под знаменем Сергея Эйзенштейна, имея в руках годентаг с цитатами, и в сердце—полную веру в справедливость боя за новую историю»[28]). «Новая история», которую на глазах производил Эйзенштейн, была продуктом особого исторического видения. По сути, Эйзенштейн превращением мифа в историю разрешает посредством кино вагнеровскую дилемму.
«Александр Невский»—сознательный анти-«Чапаев»: если для Чапаева характерны энергия, юмор, непосредственность, вспыльчивость, страстность, динамизм, то эйзенштейновский князь суров, статичен, замкнут, дистанцирован от окружающих, монументален. Это оперный персонаж.
Фильм заложил и стилевые традиции жанра: именно к этой «лошадиной опере» (так в шутку назвал картину Довженко) восходит оперность советских историко-биографических фильмов, их нарочитая театральность. Не потому ли Вагнер стремился совместить миф и историю именно в опере, что последняя позволяет разрешить эту политико-эстетическую дилемму в органическом художественном жанре?
<…> Сразу после выхода фильма критика писала об эпичности картины и героя: «Эпос. Эпическая широта, ясность, чеканность. Залитый солнцем, прозрачный, захватывающий необозримое пространство кадр Эйзенштейна, в котором все крупно, объемно, величественно—вещь, человек, событие. История встает здесь тоже только в крупных чертах, все второстепенное отброшено. <...> “Александр Невский” построен, как былина. Эпические образы Эйзенштейн видит крупными, целостными, высеченными из одного куска, из одной глыбы, свободными от дробных, мелких черт, от психологических деталей... обращаясь к эпическим страницам истории, Эйзенштейн находит свою силу. Он показывает людей в ином, чем другие, масштабе,—именно тогда, когда они становятся богатырями <...>. Не древность, не прошлое, не старина только являются достоянием эпоса. Эйзенштейн сумел его показать и в революции 1905 года, и в великих днях Октября. В наши дни складываются былины о сегодняшней жизни народа, о сегодняшних его героях, и голос сказителей, творящих новый эпос, не звучит чуждым в советской поэзии. Более, чем когда-либо в истории, наше время—время эпоса»[31].
В этой «эпичности современности» критика видела залог аллюзивной эффективности картины. Уже позже историки будут говорить о фильме как о «стилизованном героическом лубке» (Майя Туровская[32]), о «преувеличенной» и «экстравагантной простоте» картины (Дэвид Бордвелл[33]). «Эпическая опера» с геополитическим сюжетом, созданная Эйзенштейном (и Прокофьевым) для экрана, разрешала центральную проблему переработки мифа в историю (стоит заметить, что «Александр Невский» вышел на экраны в том же году, когда был опубликован «Краткий курс» истории партии).
Заданная этим фильмом парадигма советского историко-биографического фильма продемонстрировала исключительную идеологическую эффективность, устойчивость и художественную убедительность. Канон был создан. Дальше по стопам Эйзенштейна прошел другой классик советского и мирового кино—Всеволод Пудовкин.
В тени монументов
Юрий Олеша ввел в русскую литературу нового героя—колбасника. О смелости писателя и небывалом доселе типе героя писали многие. Между тем в пантеоне русских героев уже был представитель столь же прозаической профессии—новгородский мясник Кузьма Минин, который вместе с князем Дмитрием Пожарским «спас Россию от Смуты».
Согласно Покровскому, российская Смута 1600–1612 годов сводилась к «крестьянской войне» против бояр. Бояре интриговали и предавали друг друга, государственная власть ослабла, в страну ринулись иностранные интервенты, поляки привели в Кремль Самозванца, поддержав крестьянские восстания. Классовый конфликт был налицо, и поляки его использовали.
Однако после десятилетия Смуты,хаоса, голода и разрухи удалось собрать деньги, создать народное ополчение и изгнать поляков из Москвы. Действия эти осуществлялись, разумеется, не крестьянством, способным разве что на бунт, но никак не на борьбу с регулярным польским войском. Минин и Пожарский (какими бы ни были мотивы их поступков) «объективно» выступили в роли усмирителей крестьянских восстаний. Их под держка— главным образом, правящими классами, боявшимися своих холопов больше, чем поляков, и давшими деньги на ополчение и фактически на наемную армию,—объяснялась далеко не патриотическими побуждениями. Так смотрел на дело Покровский.
В сталинской же историографии Смутное время превратилось просто в период польской оккупации. Никаких крестьянских бунтов не было (а те, что были, были направлены против поляков, а не господ). Деньги, соответственно, давал сам «народ». Единственным недостатком было то, что не объяснялось, в чем же, собственно, состояла Смута. Согласно этой схеме, бояре хотели подавить бунты с помощью интервентов (с этой целью они пустили польские войска в Кремль). Однако русский народ объединился, изгнал «иноземных хищников» и разгромил под Москвой польское войско. Конфликт крестьян и бояр мешал народному (национальному) единству перед лицом иностранных интервентов. Поэтому из нового сюжета бунтующих крестьян пришлось удалить, бояр вытеснить на периферию (они участвовали лишь в развитии детективных интриг—заговорах и измене), а на первый план выдвинуть «народ» с его вождями Мининым и Пожарским в их противостоянии полякам. От классового конфликта не осталось ничего.
Антиавтократическая школа Покровского была обвинена в том, что изображала Самозванца прогрессивной фигурой, а Минина и Пожарского—«контрреволюционерами», что в Смутном времени Покровский видел «крестьянскую революцию», называя Минина и Пожарского «организаторами разгрома крестьянской революции в 1612 году». И хотя Самозванец действительно поддерживал крестьянские восстания, то обстоятельство, что он привел в страну поляков и опирался на иноземную армию (интернационалисту Покровскому это было безразлично), делало его совершенно неподходящим для новой интерпретации событий. Он не только не был народным вождем, но опирался на «реакционную польскую знать». Минин и Пожарский, напротив, фактически подавили Смуту, изнав поляков из Москвы, превратившись в «народных героев», объединителей. Смута интерпретировалась в сталинской историографии, таким образом, как простое ослабление государственности, принесшее самому «народу» неисчислимые страдания—от иностранной интервенции до экономического запустения. Категории классовости оказывались совершенно неприложимы к Смутному времени потому, что трактовка Смуты как «революции» не давала никакого идеологического капитала. Иное дело—интерпретация событий в категориях национально-освободительного движения.
События Смуты, ставшие основой фильма, в политическом смысле были исключительно наглядными: этот исторический сюжет (при правильной, разумеется, постановке) говорит о том, что страна разваливается, хиреет и становится жертвой иностранных хищников, когда в ней нет сильной власти, когда ослабевает государство. Период междуцарствия привел страну на грань гибели, и вот тогда родилась новая династия (Романовых), которая смогла вернуть России ее целостность и величие. К власти ее привел сам «народ», собрав деньги на «народное ополчение», изгнавшее из Кремля Самозванца и поляков. Понятно, почему в самом центре Красной площади на деньги великих князей в 1818 году был воздвигнут памятник Минину и Пожарскому, открытый в присутствии всей царской семьи. Понятно также, почему после Революции его так хотели уничтожить: в этом сюжете для революционеров слились ненавистные «народная монархия» и «русский патриотизм».
В принципе, понятно и то, почему автор сценария Виктор Шкловский взялся писать о Смутном времени в 1937 году (его повесть «Русские в начале XVII века» была опубликована в журнале «Знамя» в 1938 г.): сам—дитя и активный участник «смутного времени» русской революции, он знал, что выжить в России при «сильном государстве» ничуть не легче, чем в эпохи смут. Такой опыт помог Шкловскому безошибочно расставить идеологические акценты в этой новой истории, соединив, казалось бы, несоединимое: народное восстание с любовью народак князьям, предательство высших классов с их патриотизмом. Словом, Иловайского с Покровским.
Иловайский, также дитя «смутного времени», оказался невольным участником заочно завершавшегося, небывалого по накалу спора—спора бывшего главного формалиста Шкловского с бывшим главным «вульгарным социологом» Покровским.
Шкловский сознательно строил свой сценарий в противовес Покровскому, обвинив последнего в том, что тот «отрицал исторический реализм»[34], «предлагал не анализировать прошлое, а пользоваться им, как экраном»[35]. Между тем именно Шкловский профессионально занимался «экранизацией» исторических фантазий, отличавшихся от схем Покровского лишь тем, что отсутствие марксистского догматизма компенсировалось в них большим «историческим реализмом» или, точнее, прагматизмом.
<…>
Минин и Пожарский должны были предстать предводителями «народного движения», выдвинутыми снизу. Идея народного ополчения шла не от них.Они лишь возглавили народную инициативу (так что «народ» вместо того, чтобы восставать против своих непосредственных угнетателей, неожиданно восстал против поляков, которые всячески поддерживали эту его борьбу,—в своих, разумеется, целях). По этому поводу Пудовкин писал: «Мысль об организации народного ополчения и о сборе средств родилась снизу, она вызвала всенародное патриотическое движение. Минин же— большой патриот, честный, доблестный гражданин, придал этому движению организационные формы. <...> Основная действующая сила—народ, поднявший Минина на высоту, для него самого неожиданную, является ключом к трактовке нашей темы»[37].
Пудовкин видел события в проекции «Краткого курса»—с народной инициативой, «патриотическим движением», вождем, придающим им «организационные формы» и благодарным народом, поднимающим последнего на «неожиданную высоту». Для демонстрации этого курса через весь сценарий проходит фигура беглого холопа Романа (в исполнении Бориса Чиркова, к тому времени сыгравшего главную роль в трилогии о Максиме и ставшего в массовом восприятии воплощением большевика) —«олицетворение народа, который ищет и создает вождя, чтобы возглавить справедливое дело»[38]. Минин и Пожарский в фильме представлены в качестве единого харизматического вождя-полководца, подобного Александру Невскому. «Исторический реализм» совпадал с «логикой исторического процесса». Как заметил по этому случаю Шкловский, прошлое «учит понимать, как история создает вождей»[39].
У Шкловского и Пудовкина были неприязненные личные отношения. Сходились они, пожалуй, в одном: в утверждении своего метода как... «реалистического». То, что Шкловский называл «историческим реализмом», Пудовкин характеризовал следующим образом: «Здесь все должно быть создано воображением. В этот воображаемый мир нужно было глубоко врасти, поверить в него, почувствовать себя в нем свободным». Это Пудовкин называл «художественной правдой»[40]. В соответствии с ней фильм открывался словами, в которых крестьянские восстания и Смута даже не упоминались: «Шесть лет страдала русская земля под гнетом интервенции...» Причина всех бед—раздробленность. «Кабы собрать всех русских людей...»—мечтательно говорит Минин, глядя на царящию кругом разруху и голод. Мешают объединению индивидуализм и собственничество. Торговля в советском историческом фильме всегда выступает оппозицией патриотизму. Подобно тому, как противниками борьбы с врагом в «Александре Невском» выступают новгородские купцы, в «Минине и Пожарском» главным препятствием на пути патриотического почина являются купцы нижегородские. В отличие от купца, обращающегося к народу со словами: «Православные! Защитим Нижний Новгород!»,—Минин призывает: «Граждане новгородские! Не за свой город, не за Нижний один, а за все государство Московское надо поднимать ополчение! <...> Одолеют нас поляки, прибьют на шею железное ярмо железными гвоздями, и будем и дети наши панам холопы, родину забудем, родной язык забудем». И тогда «народ», доведший своими бунтами «государство Московское» до «смуты» и развала, вдруг проявил то, что Шкловский назвал «ощущением единства государства», т.е. небывалую национальную зрелость, и ответил Минину словами: «Неужели добро свое пожалеем, а землю родную не пожалеем?!» В другой сцене «народ» обращается к воеводам со словами: «От вашей боярской своры пагуба всему государству». Поддержка «народа» вызывает реплику Минина: «Коли все порешат, то и купцов приневолим». «Народ» выступает в роли единого социального субъекта исторического процесса, наподобие класса.
Марксистский класс выворачивается наизнанку, превращаясь в этническую общность. В результате и вождь социальной группы трансформируется в национального вождя. Поэтому Минин и Пожарский, возглавивший народное ополчение, разговаривают с «народом» исключительно на соборных площадях и перед строем. Ни в каком другом пространстве «народ» не может собраться в качестве субъекта исторического действия. Иное дело его противники—бояре, поляки и прочие предатели народно-национального дела. Советский исторический фильм наполнен предателями и шпионами (в «Минине и Пожарском» появляются совсем диковинные—из Португалии). Сам Пудовкин утверждал, что во время Смуты «предательство и измена стали почти что бытовым явлением»[41]. Вождь-полководец, не будучисам представителем «народа», чья зоркость и решительность позволяют прозреть истинную опасность, отличается от него тем, что он не в состоянии различить врага либо проявляет к нему либерализм. В «Минине и Пожарском» именно 35 крестьянин Роман, беглый холоп князя Орлова, оказавшегося изменником, в конце фильма находит и убивает его. Критика писала, что это убийство— «акт государственный, и Роман в нем выше, чем Пожарский, великодушно простивший подосланного убийцу»[42]. Подобные же сцены обнаружим и в «Богдане Хмельницком», и в «Пугачеве», и в «Степане Разине».
Скроив свой фильм по лекалам «Александра Невского» (съемки «Минина и Пожарского» проходили на тех же площадках и в тех же павильонах, где только что снималась картина Эйзенштейна, а в массовых и батальных сценах была задействована массовка, которая участвовала и в «Александре Невском»), Пудовкин, подобно Эйзенштейну, остался недоволен своим первым историческим фильмом. Поскольку он всегда стремился к реалистической манере, ему был непривычен исторический антураж, когда все—от бутафорских тарелки и ножа до накладных бород—было искусственным. В отличие от «Александра Невского», созданного в подчеркнуто условной манере, в «Минине и Пожарском» чувствуется не условность, но именно искусственность.
<…>
Польская тема занимает в «Минине и Пожарском» центральное место. Именно поляки должны были заменить в этом историческом спектакле русских крестьян—настоящих инициаторов Смуты, приняв на себя их «исторический грех» за российские беды и ослабление государства. Проекция внутриполитической драмы на внешнего врага была тем более убедительной, что к осени 1939 года, когда «Минин и Пожарский» вышел на экраны, Польша уже была расчленена и обширные ее территории вошли в состав СССР. Так что история изгнания поляков из России в начале XVII века должна была рассматриваться как своего рода прелюдия к свершившемуся в 1939 году. Современность дописывала фильм, сближая его с другим антипольским полководческим произведением—вышедшим спустя полтора года «Богданом Хмельницким». Обе картины интересны еще и тем, что центром в них стала не столько биография исторического персонажа, сколько сами исторические события, в которых историческая личность реализовала себя: для Минина и Пожарского это 1612 год, для Богдана Хмельницкого—год 1648. Способ репрезентации главного персонажа сближал два этих фильма.
Немалую заслугу сыграл и единый враг. «Минин и Пожарский» и «Богдан Хмельницкий»—фильмы прежде всего антипольские, самое их возникновение и рецепция невозможны вне контекста пакта Молотова-Ребентроппа и раздела Польши в 1939 году.
Как замечает историк кино, «кинематографисты реконструировали историю русско-польских отношений исключительно как эпопею противостояния враждебных друг другу народов, как перечень национальных обид и мщения за них. Единокровная близость восточных славян была противопоставлена “панской” Польше. Эти фильмы, формировавшие у зрителя негативный образ Польши и поляка, оправдывали советское вторжение 1939 г. и наводили на мысль о том, что Польшу настигло историческое возмездие»[49].
Но была здесь и своя специфика, на которую обратил внимание Василий Токарев: для «Минина и Пожарского» и «Богдана Хмельницкого» характерна противоположная семантизация классовых и национальных аспектов в оценке одних и тех же событий. «Приоритет патриотической интерпретации Смуты и Хмельничины в советском кинематографе контрастировал с тем, как советские пропагандисты в 1939 г. оттеняли национально-освободительный характер польского восстания 1794 г. На первый план выносилась не борьба за независимость, а классовая сущность движения. Шляхетско-буржуазный характер восстания словно упразднял вину Суворова»[50]. Советская культура, которой идеологически надлежало стоять на стороне Костюшко и Пугачева, оказалась на стороне Суворова, который их разбил. С этой же, национальной, точки зрения, Польша оказывалась врагом даже тогда, когда защищала, казалось бы, классово «правильную» сторону в эпоху Смуты и, напротив, правыми вышли те, кто эту Смуту (еще недавно называвшуюся «крестьянским восстанием») подавил—Минин и Пожарский.
Если и шла здесь речь о национальной идентичности, то именно о советской, совпадающей с русской, поскольку действующий против поляков Богдан Хмельницкий—уже как бы русский (да и сами украинцы тоже уже интегрированные русские, лишь говорящие на каком-то запорожском диалекте), поскольку нерусские—это несоветские. Подобное совпадение советского с русским определялось составом советской империи (после войны, войдя в социалистический блок, поляки тоже стали «братским народом»).
И все же, если для русских поляки не были главным врагом (в русской национальной демонологии они уступали первенство немцам, французам и даже шведам), то для украинцев они исторически оказались основным противником. Когда следом за «Мининым и Пожарским» вышел «Богдан Хмельницкий», многие увидели в нем не только развитие «польской темы» (занявшей в советском кино огромное место в предвоенные годы[51]), но и отвердевание открытой Эйзенштейном стилевой доминанты.
<…>
«Богдан Хмельницкий»—это не только рассказ об истории «братского народа», но украинский национальный эпос, и в этом качестве фильм опирался на уже сложившуюся к тому времени традицию украинского поэтического кино и романтической украинской литературы. Критика писала о фильме как о «блестящем образце киноэпопеи на ее новом реалистическом этапе» и искала истоки киноэпического жанра не в театре, но в романе и в эпической поэме[52]. С первого появления в кадре Богдан Хмельницкий—погруженный в думу эпический герой. Фигура его огромна, движения медленны, речь экспрессивна. Он живет в мире богатырей—театрально разодетой, пьянствующей, богохульствующей, гуляющей, анархичной запорожской вольницы. Он—ее разум, воля и пафос; он—героическая персонификация этого эпического мира.
<…>
Не то чтобы Савченко поставил своего героя на котурны—он просто не снял его с пьедестала. Поскольку «эпический герой не нуждается в тщательной психологической разработке характера»[54], его личная жизнь превращена в своего рода эпическую мелодраму (польская шляхта подсылает отравить Хмельницкого его любимую жену), а метафоры теснят одна другую (так, «страдания украинского народа под польским игом» изображаются под музыку бандуристов, как бы иллюстрируя их страшные песни о «вытянутых из народа жилах»).
В эпическом мире фильма каждый из героев представляет какую-то группу: казаки, запорожцы, крестьяне, татары, шляхта, «реестровые» казаки-изменники и т.д. И только гетман являет собой самоценную величину.
Он—полководец и одновременно народный вождь, ненародное происхождение которого компенсируется постоянным пребыванием в «гуще народа»: «Богдан выступает как народный вождь. Он велик тем, что страдания народа стали и его собственными страданиями. Принадлежа к зажиточной части казачества, он поднимается над сословными предрассудками и посвящает себя воплощению народной мечты о свободе. <...> Здесь уже устами вождя говорит сам народ, неукротимый в своей ненависти к врагу, в стремлении к свободе»[55].
Сам способ выражения ненависти «устами вождя» представляет особый интерес. Хмельницкий вообще не говорит. Он декламирует (популярное в сталинское время т.н. «художественное чтение»): с экрана льется богато интонированная, пафосная (чаще гневная) речь вождя. Филиппики и патетические проклятия сопровождаютсятеатральной жестикуляцией (избыточной даже на сцене, не говоря уже об экране). Проза сценария превращается у Мордвинова-Хмельницкого в белый стих. Он троекратно повторяет в гневе, с напором, как заклинание: «От нашей мести содрогнется небо! Карa панaм!» И на фоне этого клича казаки идут на эпические муки, восходя на костры, несется на штурм польских замков казачья конница, летят с крепостных лестниц и стен поляки, вершится история. Действия Хмельницкого подобны действиям заклинателя или пророка: он то возводит к небу руки, то закатывает глаза, то грозно сверкает ими, то сжимает кулаки, то прорезает булавой воздух—и тут же его слова и жесты переводятся в движение «народных масс».
Открытый в «Александре Невском» способ репрезентации полководцавождя, вместе с победой над врагом кующего национальную идентичность ведомого им народа, оказался исчерпанным потому, что перегонка мифа в историю стала невозможной без параллельной перегонки истории в миф.
Эйзенштейн работал с «доисторическим» материалом, прозорливо отказавшись от сюжетов XVII века: в основе «Александра Невского» лежала мифология, ждавшая историзации. Для «исторического реализма» требовались совсем иной уровень психологизма и персональности. Без них мифологизированная история застывала в первозданной эпичности, отсылавшей не столько к «марксистскому историзму», сколько к исходному мифу, так и не дождавшемуся в «Минине и Пожарском» и «Богдане Хмельницком» превращения в «историческую правду».
Ордена, они же люди
Между выходом «Минина и Пожарского» и «Суворовым» прошел всего один год. За этот год Пудовкин создал фильм, практически во всем противоположный монументальному классицизму своей первой исторической картины: если отличительной стороной «Минина и Пожарского» была статика памятника, то в «Суворове» это динамика; если в «Минине и Пожарском» на протяжении всего фильма на экране не увидишь ни одного улыбающегося лица и все пронизано державной серьезностью, то в «Суворове» царит юмор; если «Минин и Пожарский» критиковался за плохую, статичную композицию, то «Суворов», напротив, отличался динамичными композицией и монтажом.
Фильм «Суворов» по сценарию Гребнера собирался ставить Михаил Ромм (вначале сценарий был отдан Пудовкину, но тогдашний руководитель кинематографии С.Дукельский решил сократить историческую тематику, и Пудовкин вынужден был от сценария отказаться). В фигуре Суворова Ромма привлекли гениальность полководца и его чудаковатость, в которой режиссер видел стратегию поведения и выживания этой колоритной личности при русском дворе. Ромм собирался ставить фильм в жанре, который он определил как «героическая комедия». С приходом нового руководителя кинематографии И.Большакова историческая тема вновь вернулась, и Пудовкин потребовал сценарий назад. Ромм вспоминает: «И.Г.Большаков спросил меня: “В каком духе вы собираетесь снимать “Суворова”?” Я ответил: “В героическом, но это будет комедия”. “Как комедия?—удивился И.Г.Большаков.—О великом полководце?” И сценарий решено было возвратить Пудовкину. “Не собираетесь ли и вы ставить “Суворова” в виде комедии?—спросил Большаков Пудовкина. —Упаси бог, я вообще комедий делать не умею”,—ответил Всеволод Илларионович. И добавил: “К сожалению, я лишен чувства юмора”»[56].
Пудовкин оказался самым подходящим кандидатом для постановки сценария, который был скроен по прямому сталинскому заказу. Прочтя его, Сталин написал подробную записку с разъяснением, что надлежало снять на экране: гений Суворова—в стратегии наступления и тактике обхода противника, в умении держать дисциплину в армии, но, главное,—картина должна преодолеть стереотип о Суворове-чудаке.
Поскольку от чудачеств Суворова, вошедших в исторические анекдоты, отказаться совсем было нельзя, авторы решили использовать их в идеологических целях, трактуя как своего рода подрывную деятельность против двора и сановного этикета, как «издевку великого полководца над чуждым Суворову придворным мирком»[57]. Так что Пудовкину почти не пришлось окарикатуривать Павла или Аракчеева. Все работу по их сатирической дискредитации выполнял Суворов своими «чудачествами», поставленными режиссером на службу борьбы с царизмом.
Эксцентризм, стихийность, непосредственность поведения и «народность»—отличительные черты Суворова. Армия—это семья. Он—отец и обращается к своим «кавалерам» со словами: «Дети мои!». Их общение происходит в форме своеобразных митингов. Суворов Пудовкина—это типаж фольклорного плута. Он—воплощение свободы, которая раскрывается не только в неожиданности и динамике суворовских атак. Его финальный взмах саблей, указывающей направление наступления, воспринимается как метафора указания пути к окончательной свободе, как бы уводящая зрителя в будущее.
<…>
Эта армия походит на советскую, а Суворов превращается в Чапаева XVIII века. Так происходит окончательный отказ от заданной в «Александре Невском» модели. Пудовкин шел от характера, который все время оставался в его фокусе. В результате сами действия Суворова и его армии оказывались нерелевантными: суворовские походы никак не связаны с «защитой Отечества»—от начала фильма («Польский поход») до его конца («Италийский поход»).
Итак, в центре «Суворова» не «патриотизм» (как у Эйзенштейна), но личность. Это верно и в буквальном смысле: «Суворов» не столько «патриотический фильм», сколько великодержавный: «за Отчизну» здесь сражаются... в швейцарских Альпах. «Суворов»—фильм прежде всего антизападный: все главные победы полководца—за пределами России. Зрителю дается наглядный урок того, что великая русская армия во главе с полководцем-вождем в состоянии поставить на колени европейские государства.
Поэтому Суворов по-сталински суров: он доволен тем, как много солдат неприятеля убито на поле боя («Правильно! Недорубленный лес опять вырастет»). Он по-сталински проницателен: по изменившемуся выражению лица узнает он французского шпиона в своем штабе.
Что же касается патриотизма, то здесь происходило его расщепление посредством противопоставления Суворова, воплощающего «народ», царизму (задачи картин «царской» серии были иными). Поскольку целью фильма было показать «превосходство народа в этом бою над отсталым царским правительством»[61], патриотизм оказывался на стороне «народа». Царизм, напротив, антипатриотичен. Этот «народный патриотизм» позиционируется как прямая предтеча «советского патриотизма» (формула которого— «великая Россия минус царизм»). Таким образом, Советская держава оказывается настоящим и единственным наследником истинного патриотизма.
С другой стороны, как заметил Шкловский, «трагедия Суворова очень глубока: у него в руках превосходная армия, он великий стратег, но его армия должна выполнять политически отсталые идеи, она не может быть полной победительницей. Поэтому Суворов должен был выиграть сражение и проиграть кампанию»[62]. Стоит, впрочем, заметить, что в центре картины были именно выигранные сражения (вопрос о судьбе кампаний в советском историческом фильме не ставился: ведь известно, что Россия несправедливых войн не вела, что завоевателей в ее истории не было—были лишь «собиратели русских земель»).
Кинематографический Суворов, в соответствии с тогдашней советской военной доктриной, «побеждал противника на его территории» («Враг дремлет, ждет тебя с чиста-поля, вот как князька твоего. Враг знает—Суворов за сто верст. А мы, удвоив, утроив шаг богатырский, из-за гор крутых, из-за лесов дремучих, налетом орлиным, как снег на голову! Бей—коли— руби—не давай опомниться! Во фланг, в тыл, в русские штыки!.. И, конечно... и слава»). В эти годы на экраны выходят фильмы типа «Эскадрилья № 5» (1939) и «Если завтра война» (1938), где утверждалась легкая победа в будущей войне—миф, рассыпавшийся летом 1941 года. «В предвоенный период Сталин считал единственно допустимым видом сражения стремительное наступление и разгром противника на его территории. И наиболее подходящей фигурой для функционального обеспечения этой доктрины он посчитал генералиссимуса Суворова»[63].
«Суворов»—продукт геополитического расклада 1940 года: враг— Франция (Гитлер как раз занял Париж), союзник—Австрия. Начало картины—победа над Польшей (поверженный враг). Разумеется, самой сомнительной с идеологической точки зрения была именно «польская кампания» Суворова (по сути, разгром польского восстания). Любопытно, как защищала позитивное изображение Польского похода в «Суворове» советская критика уже в 1980-е годы. Она возвращала картину в контекст 1940 года: «В сознании ее создателей все военные походы Суворова сближались не столько с завоевательными походами русского царизма, сколько с народной борьбой против иноземных захватчиков в Смутное время, в эпоху Александра Невского, Петра Великого, с героической обороной Севастополя в Крымскую кампанию»[64]. Иными словами, авторы фильма оказались пленниками мифологии, которую сами же продвигали.
<…>
К концу войны Кутузов становится для Сталина куда важнее Суворова: кутузовскую тактику отступления Сталин применял теперь к событиям 1941-42 годов. В «Открытом письме Рамзину» Сталин прямо апеллировал к опыту «нашего гениального полководца Кутузова, который загубил Наполеона и его армию при помощи хорошо подготовленного контрнаступления», ибо, согласно Сталину, «хорошо организованное контрнаступление является очень интересным видом наступления». В своих обширных военноисторических комментариях Сталин так и не употребил термин «отступление». В этой проекции катастрофа начала войны с миллионными жертвами и гибелью целых армий была лишь частью гениального стратегического плана по завлечению противника вглубь страны (аж до Волги!) с целью последующего его «загубления». Столь разительная смена исторического персонажа была воспринята современниками с пониманием. Шкловский по этому случаю заметил: «Время примет ленту “Кутузов” и, рассматривая ее, поймет, о чем думала страна в те дни, когда бой под городом на Волге только входил в сознание человечества»[67].
Проницательный Шкловский не заметил, однако, глубокой травматичности смены образов—Суворова на Кутузова. Он утверждал, что, когда из сценария«Кутузова» убрали по политическим соображениям военного времени международный аспект битвы с Наполеоном (союзники, Англия), получилось, что исчез сам конфликт: «Это сейчас неудобно ставить. Это 44 в сценарии снято, но при снятом эпизоде продолжают ссориться Кутузов с Александром, и выходит, что из-за ничего. Оказывается, Александр перестраховщик, ему навязали Кутузова, и ссоры никакой нет <...>. Мы видим только хитрящего человека <...>. Выходит, что Кутузов все время лишь хитрит, а не сражается. И Кутузова, из-за которого стоит снять картину, по существу нет»[68].
Между тем дело было вовсе не только в политических соображениях 1943–44 годов, но в том, что сам принцип репрезентации исторического героя требовал подчеркнутой личностности и характерологичности. Принцип «Александра Невского», где в качестве исторической метафоры брался совершенно условный материал, не работал. Здесь требовалась персонификация истории. Поэтому в «Кутузове» менее всего разворачивается «Отечественная» война, но, скорее, война между двумя личностями—Кутузовым и Наполеоном, а отмеченный Шкловским конфликт фельдмаршала с царем вполне вписывался в традиционное противопоставление царя (двора) полководцу, воплощающему мудрость, патриотизм и величие «народа».
<…>
Абсолютно несхожих Суворова и Кутузова объединял подчеркнутый психологизм и необычная чувствительность. Во многих сценах их эмоции выплескиваются наружу: Суворов со слезами на глазах уходит в отставку, покидая свою армию; Кутузов не может сдержать дрожи в голосе, говоря о вынужденном оставлении Москвы. Невозможно представить себе даже малой доли этой эмоциональности в Александре Невском, нельзя представить плачущего Минина или дрожащий голос Богдана Хмельницкого. И хотя Суворов и Кутузов продолжали оставаться идеологическими функциями, благодаря изменению самого способа их репрезентации идеологический ток пошел, наконец, в обратном направлении: историзация мифа обернулась мифологизацией истории.
Убить камердинера
О тех, кто пишет о великих людях с точки зрения их мелких человеческих слабостей и страстей, Гегель как-то саркастически заметил, что они заражены «психологией камердинера». Именно в этом грехе был обвинен третий и последний исторический фильм Пудовкина «Адмирал Нахимов».
В разгромном постановлении ЦК ВКП(б) от 4 сентября 1946 г. о кинофильме «Большая жизнь» Пудовкин был назван «невеждой», обошедшимся с историческими фактами без должной серьезности и снявшим фильм с балами и танцами о личной жизни адмирала Нахимова вместо изображения исторических событий. В принципе, ситуация с Нахимовым была запрограммирована еще в 1940 году Пудовкину рассказывали, что после просмотра «Суворова» Сталин сказал: «Хороший фильм сделали об Александре Васильевиче Суворове, теперь надо бы сделать фильм о полководце Суворове»[69].
Оказалось, что после «Суворова» дальнейшая персонализация исторического персонажа невозможна. Действительно, в первой версии фильма o Нахимове исторические события были оттеснены на задний план. На первом плане стоял бытовой Нахимов, помогавший устроить личную жизнь молодого лейтенанта Бурунова, много места занимали балы, дуэли и т.п. В сущности, фильм был охарактеризован в Постановлении вполне справедливо как картина «о балах и танцах с эпизодами из жизни Нахимова». Но, как указывала, вторя Постановлению, критика, «решить биографический образзамечательного человека можно лишь на основных, составляющих его биографию фактах, смело оперируя значительными историческими событиями, не отклоняясь на путь мелочных поисков забавных и оригинальных эпизодиков»[70]. Пудовкин оказался в неожиданной ситуации: по сути, он в третий раз снимал «тот же» фильм—с иной фабулой, перенесенной в иное время (XVII—XVIII—XIX века) и место (Москва—Нижний Новгород—Москва, Петербург—Италия, Черное море), но по тем же идеологическим клише. Пудовкин оказался заложником канона, им же самим закрепленного в своих предыдущих фильмах.
<…>
Пиетет перед великой исторической личностью требовал особого рода «массовки»: «Герой Крымской войны [в “Адмирале Нахимове”.—Е.Д.] так же, как и герой славного сопротивления чужеземным захватчикам, оказанного в 1612 году [в “Минине и Пожарском”.—Е.Д.], так же, как и солдат Суворова [в фильме “Суворов”.—Е.Д.],—простой русский человек в одежде солдата. Главное действующее лицо нового фильма Пудовкина [речь идет об “Адмирале Нахимове”.—Е.Д.]—это снова героический русский народ»[73]. В «армии» (точнее, в ополчении) Минина и Пожарского были объединены дворяне и крестьяне. Нетрудно заключить, что возникало немало «классовых противоречий». Ничего этого у Шкловского и Пудовкина, как мы видели, не было и в помине, поскольку целью фильма было показать патриотическое объединение нации против иностранного вторжения. Перед лицом общей опасности классовые различия полностью снимаются.
Полководцы из дворян превращены сплошь в «передовых людей своего времени». Национальные заслуги почти автоматически делают из них «мужицких демократов»—сторонников «передового общественного строя» и противников крепостного права. Это верно и для «Суворова», и для «Кутузова», и для «Адмирала Нахимовa».
Заставший время событий, представленных в «Адмирале Нахимове», и находившийся от них в непосредственной близости Лев Толстой свидетельствовал: «В бою, когда сильнее всего должно бы было действовать влияние начальника, солдат столько же, иногда более ненавидит его, чем врага; ибо видит возможность вредить ему. Посмотрите, сколько русских офицеров, убитых русскими пулями, сколько легко раненых, нарочно отданных в руки неприятелю, посмотрите, как смотрят и как говорят солдаты с офицерами перед каждым сражением: в каждом движении, каждом слове его видна мысль: “не боюсь тебя и ненавижу”»[74].
Советское же кино рисовало русскую армию монолитную, сильную мужеством солдат и офицеров, массовым героизмом, патриотизмом, сознательностью и дисциплиной. О том, что эта армия была едва ли не основной частью ненавистного царского режима и разрушенной революцией государственной машины, инструментом его карательной политики, основной силой проведения империалистической политики «жандарма Европы» и стражем «тюрьмы народов», т.е. всего того, что было ясно в революционной культуре, глядя на сталинский экран, нельзя было даже догадаться. Социальные функции царской армии так же, как и социальная ее природа, находились где-то в иной исторической реальности. В этой царской армии не бьют шомполами, не прогоняют сквозь строй, не издеваются над солдатами, здесь офицеры не пьют, не картежничают, не воруют.
Здесь полководцы беспрестанно благодарят солдат за отвагу и любовь к Отечеству и ведут с ними задушевные беседы. Опиравшемуся на образ «проклятого прошлого» революционному искусству такая армия была не нужна. Национально-патриотическая советская культура, напротив, нуждалась в легитимации через «народ» и находила в качестве «народа»... солдат. Идеальная бесклассовая армия оказывалась слепком того идеального бесклассового общества, которое демонстрировали фильмы «народной» и «царской» серий.
Коллизия, связанная с переработкой «Нахимова», показала, что биографический канон в советском кино окончательно затвердел. Между тем биографическая цепь не прерывалась. Сам Пудовкин рассматривал своего героя-флотоводца в бесконечной цепи квазиисторического генезиса. Во время обсуждения сценарияПудовкин так формулировал эту задачу: «Нахимов—прямой продолжатель традиций военно-морского флота, традиций, которые были начаты Ушаковым, Лазаревым и затем продолжались Нахимовым. Темы Нахимова как продолжателя традиций военно-морского русского флота—сейчас нет... для того, чтобы затраты по «Нахимову» имели больший эффект, эта картина должна послужить опорой для следующих морских картин. Нужно немедленно заказывать сценарий об Ушакове и др.
Было бы хорошо показать старого Ушакова и молодого Лазарева, старого Лазарева и молодого Нахимова...»[75].
Но, как и прежде, состав тематических планов кинопроизводства определяли политические соображения. Поскольку в конце войны актуальной фигурой становится Кутузов, воплощавший идею «стратегического отступления» как «интересного вида наступления», Нахимов странным образом начинает напоминать Кутузова. Когда речь заходит о затоплении Черноморского флота, Нахимов буквально повторяет его слова: «Надо отступить на сушу, затопить корабли и отстоять Севастополь. Москва горела, а Русь от того не погибла. А Москва стоит и будет стоять». Но то был 1945 год.
В 1953 году активная интервенционистская политика требовала возврата к Суворову и его стратегии «войны на территории врага». В кинодилогии М.Ромма «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы» мотив этой связи настойчиво педалируется. Режиссер даже сводит Ушакова с Суворовым с тем, чтобы великий флотоводец смог рапортовать великому полководцу: «По мере сил творю на море то, что вы творите на суше, Александр Васильевич». Фильм и задумывался Роммом как «морской Суворов».
Ромм, который сам когда-то мечтал о постановке «Суворова», лишил своего Ушакова всяких индивидуальных черт, не говоря уже об эксцентричности, которая была ему как раз присуща (достаточно вспомнить о прозвищах Ушакова: «медведь», «лапотный дворянин», «смоляная куртка»).
«Ушаков» Ромма—это «Суворов» после постановления ЦК 1946 года. Решив не рисковать, Ромм заодно лишил Ушакова и каких-либо противоречий и сомнений. Если «Александра Невского» выручала сказочная условность, «Богдана Хмельницкого»—сценарий, а «Суворова»—легендарная неординарность персонажа и игра актера, то «Ушакова» не спасало ничто. Такой герой «представал цельным, как монолит, а потому торжественным и монументальным. И, как всякий монумент,—холодным и остраненным от всего живого и индивидуального»[76]. Критики склонны были видеть в этом «упадок жанра». Между тем речь идет лишь о трансформации исторического жанра в современный: с нарастанием от картины к картине актуальной геополитической риторики они из биографических превращались в сугубо политические фильмы холодной войны (представлявшие собой особый жанр в послевоенном сталинском кино[77]).
Ушаков, которого Ромм изобразил создателем Черноморского флота, подобно Суворову, Кутузову, Нахимову, борется не столько с врагами, сколько с бездарными царскими вельможами, глупыми уставами и бесчестными «союзниками», мечтавшими об ослаблении России и шедшими на предательство. По части оглупления врагов Ромм, всегда склонный к острополитической сатире, переусердствовал: его Наполеон—не грозный завоеватель, но обычный позёр. О нем только и говорят, что он был побит то тут, то там, а его генералы и маршалы только и ищут случая, чтобы сдаться в плен. Нельсон показан интриганом и неудачником, который никак не может победить Наполеона и завидует победам русских. На фоне этих карикатурных персонажей, похожих на персонажей фильмов холодной войны, Ушаков выглядит еще более монументально. Все остальные (как на постаменте памятника) играют массовку. Григорий Козинцев после просмотра картины записал в дневнике: «“Адмирал Ушаков”... Турки, татары. Полевой, Кукольник. “Как пышно, как красиво!” Ушаков ненавидит турок, очевидно, потому, что они все служили в оперетте»[78]. Это же можно было бы сказать не только о турках.
<…>
Дилогия Ромма построена на перемежании сцен грандиозных морских сражений (огонь, пушечный гром, столкновение кораблей) разговорными эпизодами в роскошных декорациях дворцов. Именно здесь плелись нити заговоров и шпионские планы. Леди Гамильтон натравливала Нельсона на русских. Англичане (вчерашние союзники по антигитлеровской коалиции) опять превращались во врагов. Вся их союзническая деятельность сводилась к заговорам: они завезли в Херсон чуму и устроили в городе эпидемию, подожгли верфи, где строился русский флот. Английские лазутчики, шпионы и диверсанты организовывают восстание крымских татар, покушение на Ушакова.
Задача этого фильма—историзация геополитических реалий послевоенной Европы. <…>
<…>
Фильм об Ушакове оказывается фильмом об освобождении русскими Европы «поработителей». Мы узнаем, что население Греции и Италии «поднялось на борьбу против угнетателей-французов» и безмерно благодарно русским. «Не победителями явились мы сюда, а защитниками грекам»,—говорит Ушаков. Освободитель Корфу, он обращается к грекам: «Единоверцы, кровью героев скреплено братство наше. Так примите же из рук России дар—вольность свою». Русские защищают греков от зверств турок; пленных французов—от зверств англичан, убивающих безоружных «республиканцев» (причем карательными операциями руководит лично Нельсон). Ушаков же отказывается убивать пленных: «Там, где развевается русский флаг, казней не будет!» Хотя Ушаков воюет против Наполеона в союзе с англичанами, на протяжении всего фильма мы видим весьма сочувственное отношение к республиканцам-французам (Ушаков и сам республиканец: он пишет республиканскую конституцию для Греции), а настоящим врагом России является «союзная» Англия. Англичане коварны и циничны: лорд Гамильтон организовывает бунты в русских тылах, он подговаривает турок не давать русским провианта, австрийцев—принимать одностороннюю капитуляцию французов, запуская их в русский тыл, он снабжает пушками французскую эскадру, а леди Гамильтон изображена авантюристкой-шпионкой, организующей бунты на кораблях, покушение на Ушакова.
Задача англичан—направить Ушакова на освобождение Неаполя, оставив Ионические острова, которые они сами хотят контролировать, поскольку видят в них ключ к Балканам. «Сильна стала для них Россия»,—так объясняет Ушаков изменнические действия псевдосоюзников. Обращаясь к Нельсону, он спрашивает: «Доколе будете вы врагом союзника и союзником врага?» Политическое содержание фильма было ясно: именно так вела себя Англия во время только что завершившейся войны.
Важным компонентом официальной внешнеполитической риторики в 1953 году являлась антитурецкая кампания (в 1952 г. Турция присоединилась к НАТО, что было особенно болезненно воспринято в СССР, поскольку приближало НАТО к советским рубежам). Так что первое, о чем узнавал зритель, так это о том, что «исконно русские земли черноморского побережья все еще находились под турецким владычеством. Турция, подстрекаемая Англией и Францией, готовилась к новой войне против России». Турция изображается как марионетка Англии (хотя турецкий шах и понимает, что англичанам нельзя верить: «Если бы английские клятвы можно было бы намазывать на лепешки вместо меда, ты разбогател бы, мой мудрый визирь»). Главная угроза туркам исходит от России: «Суворов взял Измаил.
Что дальше? Или вы ждете, когда Ушаков начнет стрелять с Босфора по моему дворцу?»—в истерике восклицает турецкий шах (согласно флотоводческим фильмам, турецкий флот попросту управлялся англичанами).
Апофеозом первой серии «Ушакова» звучат слова флотоводца: «Нет более турецкого флота. Отныне флот русский—хозяин Черного моря».
Фильм создавался в самый разгар борьбы с космополитизмом. Поэтому в нем активно задействованы все элементы послевоенной патриотической кампании. Так, образованный Потемкин называет иностранных послов «обезьянами заморскими», а необразованный Ушаков, не знающий французского и не соблюдающий политеса, говорит о себе с гордостью: «Мы тамбовские». Зато когда граф Мордовцев советует Ушакову учиться флотскому искусству у Нельсона, оба, Суворов и Ушаков, дают «низкопоклоннику перед заграницей» патриотическую отповедь: «Суворов. Доколе и ворону на чужой стороне будем соколом называть, а дома и орла—вороной? Ушаков. Подумаешь о подобном, и не слезы, но кровь из глаз стремится. Русские имена у нас. Народ русский дал нам язык свой. Народ русский одевает нас, поит, кормит. Народ русский присвоил нам чины, звания. Будем же чтить кормильца своего!» Почитание кормильца проявляется в подчеркивании значимости России. Так, победа Ушакова при Корфу изображена как переломный момент в войне с Наполеоном: «Флаг над Корфу виден всей Европе!» Особенно ценными кажутся эти великодержавные фантазии, когда они озвучиваются противником. Так, английский премьер в ужасе восклицает: «Русский флот на Черном море! А? Это самый страшный удар для Англии со времен основания Петербурга!» Степень убедительности подобных пассажей для зрителя прямо пропорциональна их комизму.
За всем этим просматривается не столько аллюзивность истории, сколько тотальная историчность современности. Трансформация мифа в историю перешла в мифологизацию истории лишь затем, чтобы в пределе обернуться тотальной историзацией современности. От долгого (зло)употребления исторические кулисы настолько истончились, что стали совсем прозрачными. Так что исторические костюмы и напудренные парики персонажей перестали скрывать современность, но лишь должны были придавать ей квазиисторическое измерение. На завершающей стадии переработки истории в сталинизме она становится, как и утверждал Покровский, «политикой, опрокинутой в прошлое». Но политика к концу сталинской эпохи окончательно превратилась в геополитическое фантазирование. Заговор и конспиративное видение мира придавали этим фантазмам сюжет и особого рода занимательность и правдоподобие. Последнее особенно важно, поскольку агентурное мышление нуждается в правдоподобии, находяв инсценированной «реальности» подтверждение своей версии истории, в которой все покрыто тайной и происходит «за кулисами» видимого. Задача нарратива сводится к «вскрытию тайных пружин» видимых «событий», которые лишь камуфлируют события «истинные» и потому наполненные «историческим смыслом».
Мы возвращаемся к мысли Винокура о том, что «исторический факт (событие и т.п.), для того чтобы стать фактом биографическим, должен в той или иной форме быть пережит данной личностью», только «становясь предметом переживания, исторический факт получает биографический смысл»83. В мире, где «факт» есть продукт скрытых манипуляций, где «событие» упрятано за тайной, отсутствуют условия для их «переживания», для превращения истории в «духовный опыт» личности. Биография здесь не может состояться как форма исторического нарратива. История этой квазиличности не сворачивается в нарратив. Скорее, наоборот, историко-биографический нарратив, построенный по всем правилам советского идеологического фантазма, порождает некий вербальный и визуальный манекен, который на скорую руку обряжается в исторические костюмы, наделяется персональными чертами реальных исторических персонажей и играет их роль, понятую как идеологическая функция. Сама по себе «историческая личность» и ее жизнь лишены здесь «биографического смысла», поскольку являются лишь нарративным «воплощением» трансцендентных демиургических сил. Этим силам мало символизации в профиле ордена. Для полноценной репрезентации они нуждаются в инсценировании, в сюжете.
История выполняет здесь функцию фундамента (подобно историческому материализму, который призван лишь обосновать неизбежность и верность советского строя), а историческая личность персонифицирует Историю, которая без индивидуальной биографии не может состояться в сюжетном нарративе. Потребитель экранного действа замыкает этот круг, будучи не столько зрителем, сколько надсмотрщиком за виртуальным историческим персонажем. В музее восковых фигур русской истории зритель— единственное живое действующее лицо в цепи идеологических актантов, которое находится на границе конструируемыхИстории и Современности.
Тем самым он не дает историческому персонажу (а с ним и самой Истории) окончательно соскользнуть в современность («опрокинуться в политику»).
Он, как пограничник, удерживает их в мерцающем пространстве политического воображаемого и легитимирующих дискурсов. Так зритель становится соучастником современности.
1. С и м о н о в К. Глазами человека моего поколения. М., АПН. 1988, с. 189–190.
2. Цит. по: Д у р о в В. А. Награды Великой Отечественной. М.: «Русская книга», 1993, с. 46.
3. См. там же, с. 36.
4. С т а л и н И. В. 24 годовщина Великой октябрьской социалистической революции.
Доклад 6 ноября 1941 года. М.: «Правда», 1941, с. 18.
5. С т а л и н И. В. Речь 7 ноября 1941 г.—В кн.: С т а л и н. Указ. соч., с. 30–31.
6. Х е р с о н с к и й Х. Историческая тема в кино—«Искусство кино», 1938, № 3, с. 42.
7. В и н о к у р Г. Биография и культура. М., ГАХН, 1927, с. 37.
8. Там же, с. 39.
<…>
23. Г у т м а н Л. Исторический жанр в живописи и кино.—В сб.: Советский исторический фильм, с. 94.
24. Э й з е н ш т е й н С. «Александр Невский».—В сб.: Советский исторический фильм, с. 23.
25. Х е р с о н с к и й Х. Историческая тема в кино.—«Искусство кино», 1938, № 3, с. 46.
В то же время сценарий критиковался за неподобающее изображение народа. Так, по поводу не вошедшей впоследствии в фильм сцены драки в Новгороде критика писала: «Да, в Новгороде вече часто заканчивалось прямым столкновением сторон при широком участии народа.
Но достойно ли советского художника сводить к дракам политическое сознание новгородских граждан?» (Там же, с. 46).
26. Ю м а ш е в а О л ь г а. «Александр Невский» в контексте евразийской рефлексии.— В сб.: История кино/История страны. М.: «Знак», 2004, с. 100–101.
27. У л е н б р у х Б е р н д. Указ соч., с. 319.
28. Ш к л о в с к и й В. Об историческом сценарии.—В сб.: Советский исторический фильм, с. 80, 81.
29. Т и с с е Э. Как мы готовились к «Александру Невскому».—«Искусство кино», 1938, № 12, с. 8.
30. П у д о в к и н В. Александр Невский.—«Рабочая Москва», 8 декабря 1938, с. 3.
31. Б а ч е л и с И. Сергей Эйзенштейн.—«Известия», 11 февраля 1940, с. 4.
32. Из материалов лекций Майи Туровской, прочитанных в университете Дюка в январемае 1993 г.
33. B o r d w e l l D a v i d. The Cinema of Eisenstein. Cambridge, Mass. Harvard UP. 1993: p. 211, p. 221.
34. Ш к л о в с к и й В. Указ. соч., с. 74.
35. Там же, с. 74.
<…>
37. П у д о в к и н B. Фильм о патриотизме и мужестве великого русского народа.—В кн.: П у д о в к и н В. Собр. соч. в 3-х тт. Т. 2. М.: «Искусство», 1975, с. 76.
38. М а р ь я м о в А. Народный артист СССР Всеволод Пудовкин. М., Госкиноиздат, 1952, с. 209.
39. Ш к л о в с к и й В. Указ. соч., с. 82, 83.
40. П у д о в к и н В. Фильм о великом русском народе —В кн.: П у д о в к и н В. Собр.
соч. в 3-х тт. Т. 2, с. 78.
41. П у д о в к и н В. «Минин и Пожарский».—Там же, с. 75.
42. М а р ь я м о в А. Указ. соч., с. 209.
<…>
49. Т о к а р е в В. «Карa панaм!»: Польская тема в предвоенном кино (1939–1941 гг.).— В сб.: История кино/История страны. М.: «Знак», 2004, с. 167–168.
50. Там же, с. 162.
51. О «Минине и Пожарском» и «Богдане Хмельницком» в контексте польской темы, вышедшей в 1939–41 гг. едва ли не на первое место в советском кино см.: Т о к а р е в В. Указ. соч.
52. Ю р е н е в Р. Народная эпопея.—«Искусство кино», 1941, № 4, с. 14.
<…>
54. Очерки истории советского кино. Т. 2. М.: «Искусство», 1959, с. 436.
55. Там же, с. 432.
56. Мастера советского кино. Двадцать режиссерских биографий. М.: «Искусство», 1971, с. 251.
57. М а р ь я м о в А. Указ. соч., с. 222.
<…>
61. М а р ь я м о в А. Указ. соч., с. 249.
62. Ш к л о в с к и й В. Фильм о Суворове.—В кн.: Ш к л о в с к и й В. За 60 лет: Работы о кино. М.: «Искусство», 1985, с. 217.
63. Л а т ы ш е в А н а т о л и й. «Суворов»: на взгляд полководца.—«Искусство кино», 1990, № 5, с. 4.
64. Г р о м о в Е. Кинооператор Анатолий Головня. М.: «Искусство», 1980, с. 136.
<…>
67. Ш к л о в с к и й В. «Кутузов».—В кн.: Ш к л о в с к и й В. За 60 лет: Работы о кино, с. 226.
68. Совещание кинодраматургов, писателей и кинорежиссеров, созванное Комитетом по делам кинематографии при СНК СССР 14–16 июля 1943 года.—В сб.: Живые голоса кино. М.: «Белый берег», 1999, с. 244.
69. Г р о м о в Е. Указ. соч., с. 137.
70. Ю р е н е в Р. Советский биографический фильм. М., Госкиноиздат, 1949, с. 133–134.
<…>
73. М а р ь я м о в А. Народный артист СССР Всеволод Пудовкин. М., Госкиноиздат, 1952, с. 247.
74. Цит. по: М а р ь я м о в А. Указ. соч., с. 247; К а р а г а н о в А. Всеволод Пудовкин.
М.: «Искусство», 1983, с. 231–232.
75. П у д о в к и н В. Выступление на обсуждении литературного сценария «Адмирал Нахимов» Художественным советом «Мосфильма» 4 февраля 1944 г.—В кн.: П у д о в к и н В.
Собр. соч. в 3-х тт. Т. 3, М.: «Искусство», 1976, с. 64.
76. И с а е в а К. История советского киноискусства в послевоенное десятилетие. М., ВГИК, 1992, с. 54.
77. См.: Т у р о в с к а я М. Фильмы холодной войны.—«Искусство кино», 1996, № 6; D o b r e n k o E v g e n y. Late Stalinist Cinema and the Cold War: An Equation Without Unknowns.—Modern Language Review. Vol. 98:4 (October, 2003).
78. К о з и н ц е в Г. «Черное, лихое время...». Из рабочих тетрадей. М.: «Артист. Режиссер. Театр», 1994, с. 38.
<…>
83. В и н о к у р Г. Биография и культура. М., ГАХН, 1927, с. 37.
Информацию о возможности приобретения номера журнала с полной версией этой статьи можно найти здесь. |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.