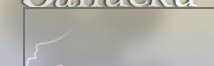|
 |
|
Валерий ХОМЕНКО
В этом году исполнилось 95 лет со дня рождения Романа Лазаревича КАРМЕНА, безусловного классика отечественного кино. Этот «некруглый» юбилей, казалось бы, обязывает к публикации академического или просто «добротного» материала—вроде мемуаров, составляющих книгу «Роман Кармен в воспоминаниях современников» (М.: «Искусство», 1983). Между тем пресловутый хрестоматийный глянец до сих пор мешает увидеть подлинно «документального» Кармена—личность весьма сложную и неоднозначную. Поэтому мы и решили опубликовать не «дежурный» материал, а неприглаженные воспоминания о мастере, написанные его учеником Валерием Владимировичем Хоменко.
В.В.Хоменко окончил первую мастерскую Кармена (всего их было три) и сразу же после этого поехал работать на Восточно-Сибирскую студию кинохроники. Сняв несколько десятков картин, он утвердился как один из ведущих ее режиссеров; многие его фильмы получили призы и дипломы на всесоюзных кино- и телефестивалях. Сейчас он, к сожалению, лишен возможности работать по профессии (такова участь многих документалистов региональных—да и центральных киностудий), поэтому пишет как музыкальный критик для иркутских газет, иногда публикуя заметки и о кино.
Его воспоминания, имеющие очень интимный) характер, раскрывают личность и творческие методы Кармена в неожиданном ракурсе. Они с особой, концентрированной остротой поднимают «проклятые» вопросы документального кино: например, до каких пределов допустима инсценировка и где проходит та грань, что отделяет сопереживание документальным героям от режиссерского насилия над ними? В какой мере документалистика фиксирует действительность, а в какой—предопределяет ее? Как политика «кнута и пряника», проводившаяся государством в отношении художников, сказывалась на документалистах? И т.д., и т.п.
Собственно, спекулятивные ответы на эти вопросы, появляющиеся в различных дискуссиях и статьях, делают совершенно необходимой публикацию такого материала, как воспоминания В.В.Хоменко. (Следом за воспоминаниями в номере идет дополняющее их по затронутым проблемам, принципиально важное интервью с Сергеем Дворцевым, самым титулованным из наших молодых документалистов.) Оставляя за собой право не соглашаться с отдельными утверждениями В.В.Хоменко, мы надеемся, что эта публикация послужит катализатором для плодотворных дискуссий о современном состоянии отечественной документалистики и о путях ее развития.
Я очень хорошо понимаю, что о Романе Лазаревиче Кармене могли бы написать гораздо более обстоятельно и исчерпывающе, чем я, многие его непосредственные сотрудники и коллеги, в том числе—мои вгиковские однокурсники. Может быть, кто-то из них уже пишет о Кармене очерки или книги, но, честно говоря, я не думаю, что они могут быть вполне откровенными. Во всяком случае, раньше это не было принято: например, в хвалебной книге о Кармене, написанной в 1959-м году[1], есть лишь несколько робких попыток «очеловечить» героя, показать сложность его натуры. Меня же в этом плане ничто не стесняет: даже сплетня, если корректно ее использовать, может порой стать уместным и ярким штрихом в обрисовке характера. Я не собираюсь никого очернять—но не хочу и того, чтобы Кармен остался в памяти людей, интересующихся кино, только как забронзовевший официозный классик.
Кармен глазами студентов
В 1960 году, когда я поехал поступать во ВГИК, набора в игровую режиссерскую мастерскую не было (вероятно, уже тогда чувствовалось некоторое «перепроизводство» кинорежиссеров). Я был несколько растерян: ехал-то поступать «вообще» на режиссерский факультет—и на предварительный конкурс посылал «художественную» режиссерскую разработку по беллетристической повести...
Пришлось выбирать между мастерскими научно-популярного и документального кино. Поскольку я был в школе середнячком в «умных науках», выбор пал на второе. Поступить удалось с «первого захода», что ничуть не говорит о каких-то особых моих преимуществах перед многими из тех абитуриентов, которые остались за порогом. Набирал нашу мастерскую Р.Л.Кармен (он в тот год впервые был приглашен преподавать во ВГИКе)—это имя мне было знакомо, хотя о его фильмах я ничего толком сказать не мог. Скорее, он был мне известен как общественный деятель.
Дело в том, что я—коренной бакинец, и то, что известный режиссер Роман Кармен снимал большой документальный фильм о «наших» нефтяных промыслах в море (туда меня «катал» временно устроившийся матросом на танкере школьный друг), я не мог не знать,—даже не вникая в подробности этой истории.
Впервые же имя Кармена я услыхал, будучи еще школьником. Осталась в памяти такая картинка: я гуляю во время каникул по чудесному нашему приморскому парку, присаживаюсь на скамью. Надо мной—столб с радио- «колоколом» (тогда они громко вещали с утра до вечера). И диктор объявляет, что сейчас будет передаваться чтение очередных глав из книги кинорежиссера Кармена — о великой стройке великого канала в Средней Азии…
(Бывает же такое: западет в память нечто пустяковое, постороннее, и застрянет на долгие годы—а почему, не объяснишь. Но помню, как тогда мне подумалось: «Кармен? Что за странная фамилия? Кармен—это в одноименной опере Бизе (я уже страстно любил оперу), а причем тут канал, причем тут кино?.. Выдумывают же люди себе такие фамилии!»... Совершенно не пойму, откуда сейчас такая отчетливость деталей в воспоминаниях,—но прошло время, и эта ниточка связалась с другими...
Гораздо позже я узнал, что Кармен снимал большой фильм о Туркмении[2], где рыли канал, что фильмы «Повесть о нефтяниках Каспия» (1953) и «Покорители моря» (1959) были награждены Ленинской премией (по тем временам она считалась высшей из высших наград*, ее присуждение вызывало огромный резонанс). Кроме Кармена, бесспорного главного автора (инициатора, сценариста, режиссера, оператора) этих двух фильмов, премию дали операторам С.Е.Медынскому и Мухтару Дадашеву,—кажется, только им, что, быть может, отчасти «принизило» заслуги Кармена. Но тем не менее, даже таким, как я, его слава представлялась очень громкой, а имя—весьма значительным.
…Так вот, до учебы во ВГИКе я не видел ни одного фильма Кармена. Правда, за несколько дней до вступительных экзаменов я гулял вечером в самом центре Москвы; было уже довольно темно. И вдруг я заметил, что на экране наружной стены кинотеатра «Стереокино» демонстрируется фильм «Нефтяники Каспия»,—да, вот так, прямо на улице, под открытым небом (это было испытание такой технической новинки, когда проектор ставится за экраном). Уж не помню, много ли я посмотрел — не весь фильм, это точно,—и «пробела» своего, конечно, не восполнил.
Это обнаружилось во время экзаменов: Кармен, конечно, не мог не спросить меня, бакинца, видел ли я этот фильм. Всё бакинское, с Ленинской премией связанное, было ему небезразлично; в разное время его мастерскую закончили несколько выходцев из Баку,—в том числе Эльдар Кулиев[3] (сын известного азербайджанского композитора-песенника Гиоджика Кулиева). Я спокойно признался, что не видел. К моему удивлению, такой «промах» (это я почувствовал по лицу Кармена) мне не повредил: мастер, огорчившись, только ругнул кинопрокат, не пропагандирующий документальные фильмы.
Лето, помню, было, жаркое: Кармен сидел в рубашке с короткими рукавами, демонстрируя сильные руки мастерового человека. Мне запомнилась очень характерная хрипотца в его голосе и абсолютно седые волосы на маленькой голове. А ему было только 53 года…
К этому времени у меня уже сложилось некоторое представление о Кармене. За два с небольшим месяца до экзамена я, стоя в коридоре, увидел его в полураскрытой на несколько секунд двери в аудиторию, где проходило собеседование—первое знакомство с абитуриентами. По коридорам пополз уже слух, что Кармен бывает не на каждом собеседовании, поэтому очень важно попасть по списку именно тогда, когда он, мастер, явится (без него «задает» вопросы комиссия из преподавателей «второго плана»). Я вместе со всеми заволновался—повезет ли?..
Мне—повезло. И зрительное впечатление от мастера, составившееся у меня тогда, оказалось весьма устойчивым, долговечным. Вызванный секретарем, я вошел к комиссии, поздоровался, сел напротив длинного стола,—и возникло первое ощущение человеческой крепости Кармена, его спокойной мужественности, внутренней добротности. Ничего вздорного, случайного, «игрового» в нем и предположить было нельзя,—никаких «излучений» артистизма, величавой «гениальности» или широкой, распахнутой натуры...
Я тогда не представлял (по невежеству провинциала), что передо мной, в общем-то, сидел человек-легенда. Супер-оперативность в съемках по всему миру (от Каракумов до Испании и от Китая до Кубы), знакомство с Мао Цзэдуном, Хемингуэем, Неру, Фиделем Кастро, великое подвижничество на фронтах минувшей войны—все это уже было за его плечами. А меня, признаться, куда сильней впечатляли, «ошарашивали» в коридорах и на лестницах ВГИКа случайные встречи с «живыми классиками», «маршалами» советского кино—Герасимовым, Роммом...
Кармен, безусловно, умел делать себя, свою судьбу и славу, и это гармонировало с его мужской красотой. Да, он был красив—без намека на слащавость во внешности и при отсутствии «правильных» черт в лице. Понимаю, что сбился на восторженный лад, но в нем действительно была словно изнутри высвеченная красота мужчины,—и мужество как главная «составляющая» ее... И еще—совершенно ослепительное искусство красиво одеваться! Невозможно было не изумляться его моднейшим (и, конечно, заграничным) пиджакам, свитерам, сорочкам, полушубкам (и полушубок-то у него был в тон светло-кремовой «Волге»!). Он словно родился в этой одежде (как выразилась раз в кулуарах одна из наших преподавательниц); вкус у Романа Лазаревича был, безусловно, художественный, природно талантливый, на добрую зависть и любование сторонних глаз.
Я вспоминаю, что мы частенько сердились на «своего» Кармена: преподавателем он, с точки зрения педагогики, был очень посредственным (с годами, как рассказывают, немного «вырос»). Работа на ЦСДФ ему, естественно, была дороже преподавания во ВГИКе, ради которого он ничем не жертвовал. Бывало, он месяцами не показывался в мастерской, занятый своими фильмами, (правда, в других мастерских происходило то же самое). И тогда копилась в нас злость на Кармена, раздражение и даже враждебность к нему: вот гад, забыл о нашем существовании! Но стоило ему появиться, красавцу-то нашему, как у женской части мастерской растаивали сердца, и даже мы, мужики, по-своему как-то «млели»...
Надо сказать, что Кармен был добрым человеком. Так, во всяком случае, воспринимал его я—и не только потому, что он явно хорошо отнесся ко мне на вступительных экзаменах (в период учебы его отношение ко мне было таким же, как ко всем). Ни у кого из моих сокурсников, кажется, не было повода жаловаться на несправедливость Кармена. Мастер был снисходителен к неизбежному студенческому лентяйству, безалаберности; он понимал, что различный уровень их творческой одаренности со временем проявится. Не было никаких «репрессий», отчислений из института и т.п. Не было у него и «любимых учеников» (ну, пожалуй, разве что Семен Аранович[4], Вахтанг Микеладзе[5], Володя Коновалов[6]): отношения со всеми нами строились по принципу соблюдения субординации.
Может, в этом что-то шло от безразличия, от некоторого равнодушия «великого человека», по горло поглощенного живой и активной киношной практикой. Ведь человек этот обладал колоссальной пробивной силой, да и действовать ему приходилось чаще всего на правительственном уровне. Он был, безусловно, «столпом» пропаганды, одним из «полномочных послов» советской власти,—не просто кинорежиссером, но и общественным деятелем. Думается, что его пробивная сила (в одной из бесед с нами он подчеркнул, что это—необходимое качество документалиста) в определенных обстоятельствах становилась пробойной и даже убойной... Может быть, понимая это и помня жестокое время 1930-1940-х годов, он проявлял человечное, сострадательное в целом, отношение к зависевшим от него людям, даже осторожное (если не подчеркнуто бережное). Так до сих пор хочется думать мне, так сложились отношения Кармена со студентами первой его мастерской во ВГИКе. Правда, как говорили наши ребята, работавшие, как и он, на ЦСДФ, судьба бывших студентов его не интересовала.
* * *
Эту историю мне рассказал мой друг Л.Щ., учившийся в мастерской игрового кино; его профессиональная судьба как-то не сложилась: ему пришлось подвизаться в документальном кино. Как-то снял он (по договору) картину на ЦСДФ, и стала редакция эту картину нещадно терзать... Все самое дорогое, оригинальное, яркое (как казалось автору) кромсалось, отсекалось, вытравлялось, так что Л.Щ. был доведен до крайних пределов отчаяния. А есть в характере моего дружка склонность к авантюризму, и она толкнула его обратиться за спасительной помощью к «высшему авторитету»—Кармену (с которым он знаком никогда не был). А Кармен в то время (начало 70-х) делал большой фильм под названием «Пылающий континент»—об освободительной борьбе народов Латинской Америки (фильм вышел в 1973 году). Он делал его на «Мосфильме», где база для производства «боевиков» (и документальных в том числе) превосходна. Документалист на «Мосфильме»—случай вообще-то редкий, но Кармен на то и Кармен: ему везде везет, и двери открыты нараспашку. Моему другу стоило немалых трудов проскочить через проходную «Мосфильма» (там было строго), разузнать, где обитает группа «Пылающего континента», и наконец, прорваться в монтажную комнату (перед ней был некий заслон из ассистентов, охраняющих творческий покой шефа), где Кармен уже вовсю вел монтаж фильма.
Дальше сам Л.Щ. рассказывал так:
—В этой комнате повсюду стояло множество чашечек с кофейной жижей на донышке, масса сигаретных окурков валялась где попало. Тут же, у стола, стояла раскладушка, на которой дремал Кармен. Мне отступать уже было нельзя... Кармен пробудился, и я был потрясен тем, как жутко он выглядит: на его лице были написаны все бессонные ночи, самоистязание работой, кофе, табаком, изнеможение поденщика... В общем-то, многим ки-ношникам все это хорошо знакомо. Я извинился и рассказал, как глумятся на ЦСДФ над моей картиной, потом взмолился: посмотрите ее, помогите... Кармен закурил, задумался и ответил: «Вы кинематографист и догадываетесь, вероятно, в каком я положении (обводит жестом руки монтажную, заваленную сотнями коробок с пленкой): надо срочно сдавать картину дирекции, а у меня еще масса работы. Но дело даже не в этом. Я верю, что Вы сделали гениальный фильм. Но даже если бы у меня нашлось время посмотреть его, чем бы я смог Вам помочь? Поймите меня правильно. Я так же бессилен, как Вы. Я ушел на «Мосфильм», чтобы сделать эту картину, потому что на ЦСДФ мне так же, как и Вам, отравляли жизнь—и те же люди, что и Вам! Там я больше работать не мог. Увы, не смогу и Вам помочь».
Тут Кармен взорвался и, перечисляя фамилии больших кинематографических начальников, стал поливать их сдобной руганью. И заключил (дословно—В.Х.): «Моя бы власть, я лепил бы из говна пули и этими пулями расстреливал всех этих подонков!» Я все понял, еще раз извинился, поблагодарил за урок и смылся.
Вторая история—иного рода. Рассказывает В.Е., мой сокурсник по мастерской.
—На втором или на третьем курсе нашего студенчества мы должны были представить мастеру сценарии своих фильмов в качестве курсовых работ. Представьте себе молодого человека, осуществившего свою первую мечту (поступить во ВГИК, да еще и волею судьбы—к самому Кармену!). И вот он стоит на пороге реализации второй мечты—снять первую свою ленту не на учебной студии института, а сразу на студии профессиональной. При всей наивности и неопытности, в наших сценариях мы стремились «объять необъятное», вложить в них все знания, помыслы, чувства, мысли. Они были написаны пусть коряво (не у всех), но от души, так что несколько страничек сценария—это была большая драгоценность для нас, и мы жаждали ответного внимания, участия.
Я вручил свой труд Роману Лазаревичу в институте, и тот, положив его в портфель, предложил мне через несколько дней зайти к нему на ЦСДФ—за отзывом, за резолюцией (как правило, это было «добро»), необходимой для запуска съемок. Когда я отыскал мастера на студии, тот отреагировал примерно так: «Сценарий? Какой сценарий?.. А-а, курсового фильма! Слушай, старик, я был очень занят, замотался... сценарий твой тут, в портфеле. Пожалуйста, зайди завтра... нет, постой, лучше послезавтра. Я прочту,—тогда мы поговорим». Надо заметить, что фамильярность мастера («ты», «старик») нисколько не была для нас оскорбительна,—напротив, это нам льстило, так как с его стороны означало своего рода «товарищескую» расположенность... В моем случае его слова имели, пожалуй, еще и извинительный оттенок. Все мы хорошо понимали, как мастер занят, что возиться с нами—не главная его работа. Поэтому, когда—«по законам драматургии»—та же сцена повторилась трижды («...извини, «старик», не мог урвать ни одной свободной минуты, не прочитал твоего сценария, приходи... через три дня...»), я, естественно, был «терпелив», ходил и ходил, ждал. Наконец, Кармен признался, что потерял мой сценарий, и сказал: «Ты меня извини, давай так: принеси еще один экземпляр, я при тебе его прочту и поговорим...» Что ж, бывает...
И последняя история, третья,—рассказана Э.К., одним из выпускников мастерской Кармена.
—Стоим мы как-то в большой очереди в кассу за зарплатой. Появляется Кармен, глядит—толпа... Мы ждем: неужели встанет в очередь, неужели и Кармену придется стоять?.. Он очень вежливо извиняется перед всеми, объясняет, что у него дела, что он спешит, просит разрешить... и, конечно, его пропускают без очереди. Он расписывается в нескольких ведомостях, засовывает пачки купюр в портфель (а были это 70-е годы!). Потом кому-то из нас Кармен говорил: «Не подумайте, что у меня много денег. Конечно, мне хватает, но они растекаются невероятно быстро, особенно на представительство. Вот, приезжает ко мне Берт Ланкастер («звезда», американский киноактер, комментирующий на экране каждую из 20-ти серий документальной эпопеи Кармена «Великая Отечественная»), куда я поведу Берта Ланкастера? Ведь он меня поил—угощал в Америке по высшему разряду...»
Думается, каждый из бывших студентов, нашей мастерской смог бы припомнить нечто «показательное» из области прямых личных отношений с мастером. Вообще-то он обращался, как правило, ко всем «на Вы» и уж сентиментальность ему была совсем не свойственна. Тем дороже для меня память о таком случае: когда я привез свою первую профессиональную картину, сделанную на иркутской студии, то, прежде всего, перед ее защитой в качестве дипломной работы во ВГИКе, я показал ее Кармену... И мастер вдруг обнял и расцеловал меня, сказав: «А научил я вас кино делать!»... Поцелуй Кармена—это дорогого стоит!
Я вспомнил, что отец Кармена был еврейским писателем и в годы гражданской войны был замучен в белогвардейских застенках в Одессе. Так было написано в той книге о Кармене, авторами которой были три женщины. Может быть, в их изложении есть элемент беллетристики, событие развернуто в целую трагедию (хотя сообщение о нем могло бы вместиться в пару газетных строчек), но мне упорно лезет в голову: есть «генетическая» связь этой семейной трагедии с добротой «Римы»,—как звали Кармена близкие ему люди на студии.
В контексте эпохи
Мне кажется, что Куба была его самой большой любовью...
В одной новелле Юрия Нагибина изображен (не без легкого юмора, но «с почтением») постаревший всемирно известный кинорежиссер, который едет в Сибирь, знакомится с краем, общается с начальниками. На пикнике их компания разжигает большой костер и режиссер значительно, «с глубокой грустью о невозвратном», вздыхает:
—О, Куба, Куба! Твои костры...
Дочитав до этого места, мы с другом в один голос воскликнули: «Ну точно,—это о Кармене!»
Куба, Фидель тогда были овеяны невероятной романтической аурой, «шестидесятники» едва ли не молиться были готовы на все чистое, непорочное,—кубинское... До студентов ли было Кармену, когда, едва набрав мастерскую в сентябре 1960 года, он со дня на день собирался на Кубу снимать фильм «Пылающий остров»—и прощался с нами… на полгода? Мы, новоиспеченные «карменовцы», были, конечно, огорчены и слегка ворчали: «Что же это, набрал—и тут же удрал...». Однако как было не понять его: Куба! Она сама еще больше романтизировала, возвышала нашего Учителя (и заодно нас самих); он был вправе нами пожертвовать...
И действительно, работа Кармена требовала непоказного мужества. Она часто была сопряжена с риском, не говоря даже о 1941-45 годах; опасности подстерегали его на всех войнах, которые он снимал—в Испании, в Китае (в 30-х годах) и во Вьетнаме (воюющем против Франции).
А его производительная мощь! Об этом ярко говорят его официальные звания: Народный артист РСФСР, позже, когда мы окончили институт,—Народный артист СССР. К 70-летию он был удостоен (по-моему, единственным из документалистов) звания Героя Социалистического труда. К тому же он был и профессором ВГИКа…
Я подчеркиваю здесь прежде всего именно его могучую трудоспособность—ведь даром такие награды и звания не даются: надо трудиться, вкалывать, пробивать, организовывать, вечно изобретать что-то новое, взваливать себе на плечи съемки колоссальных объемов и трудоемкости, штурмовать Госкомитеты и министерства, устраивать приемы, премьеры, юбилеи...
Вот впечатление одного «карменовца» (Э.К.) от семидесятилетнего юбилея Мастера, состоявшегося в 1976 году в Доме кино:
—Кто только не выходил приветствовать его на сцену!.. Но особенно поразили генералы из Министерства Обороны, что шли косяком, обнимали, целовали Кармена, дарили адреса, подарки...
И я думаю, что он сам был в кино (и не только в нем), «эквивалентен» Маршалу СССР!
Давать свою собственную оценку—какую бы то ни было—творчеству Кармена, выставлять «отметки» его фильмам,—сейчас это было бы, наверное, «не по правилам игры». Наша и его эпохи настолько разные—как две планеты. Сам кинематограф кардинально, по сути и формам, изменился,—он начал меняться уже при жизни Кармена. Но в те годы мы, его студенты, не могли не выставлять оценки своему мастеру. Абсолютного, безоговорочного пиетета у нас быть не могло: в шестидесятые годы шла переоценка ценностей (хотя и не такая коренная, как сейчас). Кармен шел, безусловно, в фарватере «хрущевского курса», и все же он вышел из сталинских времен, имел закалку 20-40-х годов.
Говорить о том, что он был крупнейшим кинематографическим идеологом коммунизма (в уничижительном смысле),—нелепо и бессмысленно, более того, несправедливо. В те времена его позиция была чем-то само собой разумеющимся,—так церковь для того и существует, чтобы славить Бога и «пропагандировать» религию... Для пропаганды тогда работало и наше документальное кино—весь его гигантский, сложный, разветвленный аппарат, не имеющий аналогов в мире. Там были мастера распознавать душок антисоветизма в самом просоветском, самом верноподданническом поведении,—достаточно было кому-то не добить челом полпоклона из ста, не докричать на полтона выше осанну...
Рассказывает мой приятель, коллега, которому довелось быть ассистентом на одном крупном фильме у Кармена:
—Мастер решил пересмотреть свои очень старые довоенные фильмы—видимо, в поисках каких-то фильмотечных материалов. Смотрели, в частности, фильм «Седов»[7]—об эпических подвигах в Арктике известного ледокола. В финальном победном апофеозе на фоне ликующей толпы трудящихся звучат крики: «Да здравствует товарищ Сталин!» В то время на натуре звук не записали (было технически невозможно сделать его качественным). Поэтому для звукозаписи собирали «хор» из студийных работников, которые запирались в тон-ателье,—одни кричали, другие писали... После просмотра Кармен сказал окружающим: «И свой голос я узнал: тоже кричал. Ну, я понимаю, тогда здравицы были обязательны, но зачем… (и недоуменно—раздумчиво) мне-то самому надо было орать?…»
Он был, конечно, правоверным коммунистом, но настолько погруженным в гигантскую сталинскую кухню кинематографа, что ему было безразлично, мне думается, кто там правит на дворе—Сталин, Хрущев, Брежнев...
Не знаю, что он думал на самом деле, когда говорил, писал о Сталине,—ни сам не слышал, ни от кого-либо. «Хрущевская» Ленинская премия как будто говорит о политических симпатиях Кармена. Но известный режиссер-документалист Екатерина Вермишева говорила мне, что Кармен был одним из хулителей какого-то ее фильма, снятого в 1961 году[8]. По ее словам, фильм был сделан не по одиозным канонам славословия, а «человечно»—как серия кинопортретов простых тружеников. Наш разговор происходил в 1977 году и выпад Вермишевой против Кармена имел характер обличения его верноподданничества...
Мой друг, режиссер Леня Сурин[9], делая свою курсовую работу—фильм о Леониде Утесове[10], снял пролог, в котором задавал москвичам вопрос: «Что вы думаете о певце?». Работница в уличном киоске справочного бюро отвечала: «Я с ним лежала в одной больнице—ну, он давал там «гастроли»; мужчина в магазине грампластинок критиковал: «Голоса-то у него нет, его одесский говорок меня смущает»; девушка в молодежном кафе от Утесова вообще отмахивалась: «Уж больно старомоден. Предпочитаю Робертино Лоретти». И в этот ряд Леня умудрился «воткнуть» еще самого Хрущева с его мнением об Утесове! Дело в том, что Сурину удалось добыть на ЦСДФ в отделе кинолетописи кадры «встречи Хрущева с творческой интеллигенцией», где на трибуне стоял партийный вождь. Леня вставил кусочек фонограммы из речи Хрущева: «...Разные бывают джазы и разная бывает музыка для джаза. Нравятся мне песни в исполнении Леонида Утесова...» Только и всего. В прологе фильма это звучало забавно (по тем временам). Но Кармен раскритиковал «стандартность» приема Сурина, а дальше сказал примерно так: «Конечно, мы знаем, что Никита Сергеевич славится своим демократизмом, он выходит в народ, общается охотно с простыми людьми (Кармен умел говорить такие вещи вполне естественным тоном, ни чуточки не фальшивя), однако я думаю, что ставить лидера нашей страны в такой ряд, как у вас в фильме,—это неприлично». Правда, оргвыводов не было. Просто... выпал эпизод из фильма.
В брежневскую эпоху Кармен вписался легко. Собственно, ему и «вписываться» не надо было: слишком велика была его фигура, его авторитет.
Если помните финал всей двадцатисерийной эпопеи о Великой Отечественной войне,—она заканчивается интервью Кармена с Брежневым. В кадре виден Мастер, снятый в три четверти со спины (он, как всегда, красив и обаятелен неотразимо); его вопрос звучит изящно, с непринужденной интонацией: «Леонид Ильич...» А вот о чем был вопрос, не помню. И сам Брежнев (с прелестными внуками на коленях) на этих кадрах был на удивление хорош—мил, естествен, даже умен; вероятно, это заслуга режиссера (и, полагаю, немалая).
Кстати, с этим интервью связана еще одна история, характеризующая «дипломатический гений» Кармена. Двадцать серий снимались как кинофильмы, но ему хотелось показать их по телевидению—ведь это значило увеличить зрительскую аудиторию в сотни раз, резонанс, престиж, всенародность!.. Как такое упустить? Но телевидение—это совсем другое ведомство (как другое государство), со своими финансами, видами, интересами. И когда Кармен позвонил самому-самому главному начальнику, хозяину на ТВ—Лапину[11], со словами: «Надеюсь, покажем мои 20 серий по телевизору?», он услышал в ответ: «А на х.. мне твое г.… нужно!» Это было еще до интервью Кармена с Генсеком, съемки которого могли состояться лишь в самых идеальных условиях, только на центральном телевидении. Договориться о съемке, когда дело касается Самого, нетрудно. На интервью присутствовал, естественно, и Лапин (то ли дальний родственник Ильича, то ли его близкий друг, даже на рыбалках—вместе...). После съемок Кармен задает только один вопрос: «Леонид Ильич, а как вы думаете, надо ли показывать наш фильм народу по телевидению?..» Должно быть, Брежнев вскинул брови в удивлении от такой «наивности» и произнес только: «А как же!..» Как говорится, за что купил, за то и продаю... Мастер, однако, не дожил до полного завершения своего последнего шедевра—и до выхода его в свет... А ведь это должно было стать его «звездным часом»!
Но случалось, что Кармен делал изредка и «мелочевку» (короткометражные ленты)—не одни только «супер-колоссы». Так, на втором нашем курсе, в марте 1962 года, Кармен, появившись на занятиях, сообщил, что должен снова на время оставить мастерскую: ему предложили сделать оперативный двухчастевый фильм, и он согласился (на студии этому удивлялись: не мелковато ли для Кармена?). Но чтобы совсем не рвать связей с мастерской, Кармен «выдернул» троих своих студентов из общего учебного процесса ВГИКа (под письменное обязательство сдать весеннюю сессию без поблажек) и сделал их на два месяца своими ассистентами на фильме, включив в штат ЦСДФ. Его выбор пал на Семена Арановича, Сурина и меня (мы с другом, было, не понимали—за что такая честь?). В результате мы могли наблюдать процесс создания («сочинения») фильма в некотором приближении к кухне мастера. Такая внеплановая практика в производственных условиях студии была для нас «технологически» полезна, ибо все для нас было внове—служебные нравы, порядки, жизнь профессионального «муравейника». Но тема фильма была слишком «специфической», чтобы мы могли вынести из такой практики что-то для личной «творческой лаборатории». Предстояли выборы в Верховный Совет СССР—об этом Кармен и «делал кино». Он решил построить фильм на кинопортретах кандидатов в депутаты, то есть избрал «человеческий подход», как тогда говорили (одним из его родоначальников считали и самого Кармена).
Творил он в условиях, о которых ныне и мечтать нельзя. Вспоминая об этом, до сих пор диву даюсь: сколько техники, пленки, специалистов, какие денежные затраты—и всего-то на 20 черно-белых минут агитки, которую через пару месяцев забудут... Кинопортреты и вообще предвыборный репортаж снимали для Кармена десятки и десятки кинооператоров—во всех концах Союза (по его заданию или по собственному выбору). Он просматривал и браковал множество сюжетов. Каковы же были лимиты расхода пленки? Говорили, что «правительственные» (то ли 1 к 25-ти, то ли больше), а может, вообще крутили безлимитно...
Мастер глядел и глядел в просмотровом зале тысячи километров пленочного сырья—тоже труд! И он не стеснялся в выражениях, выбраковывая кадры в «ассенизационных потоках» (чему мы, практиканты, были свидетелями). К этому еще и подбирались небольшие кусочки из летописной хроники—прежних фильмов, журналов; в огромных мусорных кучах, может, и затерялось какое-то жемчужное зернышко, но разгребать кучи не всегда приятно. Впрочем, с Карменом трудились опытные ассистенты—не нам, практикантам, чета; сам режиссер имел дело с материалом, уже раз-другой просеянным. Из отобранных портретов, деталей, связок нужно было сложить своего рода мозаику: один «камушек» кладешь, убираешь другой, монтируешь их перед зрителем, в нужной тебе последовательности и ритме. И это, может быть, одно из главных выразительных средств киноискусства. Этим искусством—монтажом—Кармен владел виртуозно. Естественно, я не помню, как складывалась мозаика этого фильма Кармена, не вполне характерного для его творчества—по масштабу и теме. Но ведь известно, что написать композитору, скажем, струнный квартет—труднее, чем симфонию, ведь в «малой форме» все обнажено: если есть настоящая музыка, она звучит и всюду, если нет—не спасет никакая большая форма. А маленький фильм Кармена—это было КИНО (как любят говорить снобы).
<…>
«Крупный карменовский план»
Итак, Кармен был одним из первых в прорыве «художественной» догматики социализма и одновременно—вот парадокс—он же был, что называется, «человеком своего времени». Вспоминаю такой случай.
Мы с Суриным снимали свою самую первую «пробу пера»—уютный немой киноэтюд на Пушкинской площади в Москве. Ранним летним утром оператор «хлопнул» нам кадр: человек лежит и дрыхнет на скамейке в пяти метрах от памятника Пушкину; вокруг светло и пустынно. Нам казалось, что это—«жутко человечный кадр», потому что—настоящий репортаж: шел человек, устал, прилег отдохнуть у «святого места», очень даже мило, а что?.. Кармен, посмотрев этюд, принял его (это ни к чему его не обязывало), но четко определил: «в профессиональной работе такой кадр недопустим,—человек, спящий на скамье, не может не ассоциироваться с образом бездомного, безработного». После этого, кажется, мы свой этюд чуток подрезали...
Что ж, это, похоже, было нашим микро-крещением. Конечно, от своей наивности мы вскоре избавились, но теперь уже сознательно старались «протащить» в свои фильмы хоть что-нибудь, что может «утеплить», скрасить, разнообразить кинорассказ,—а начальники тем старательнее все это выискивали и требовали убрать... Вспоминаю, как в одном дорогом мне фильме (измордованном «наверху»)**, в лучшем из дублей на нос положительного героя села муха... Я на это рукой махнул—пустяк, мелочь, главное, что кадр работает, да и кто разглядит эту муху? Но большой московский начальник (Т.Н.Нифонтов) воскликнул в патетическом изумлении: «На герое—и вдруг муха? Это же брак!»...
У Кармена нюх на подобные «мушки» как-то парадоксально совмещался с чутьем к обаянию непритязательного человека. Не знаю, каким он был редактором—ведь на ЦСДФ он имел право принимать или отвергать фильмы коллег, поправлять их, на худсоветах он даже обязан был высказываться. И для кого-то (как в случае с Е.Вермишевой), возможно, это имело болезненные последствия. Вспомнилось его замечание по поводу моего дипломного фильма (того самого, за который я получил «поцелуй Мастера»). Музоформитель принес мне одну гитарную песенку, с тихонькой такой, непритязательной мелодийкой, но песенку сердечную, располагающую к доверительности. Мне хотелось, чтобы она своей грустью смягчала «будни великих строек», своей «человечностью» контрастировала с пафосом темы, да еще и связывала бульшую часть эпизодов, создавала общую канву фильма. Но Кармен сказал мне (через пару дней после поцелуя): «Вчера в Союзе кинематографистов еще раз посмотрел Ваш фильм. Я доволен, все хорошо. Но эта Ваша песенка... Я помню—она там, в недрах, в среде строителей родилась (это было не так...), но есть в ней что-то такое… этакая приблатненность... может, надо было другую песню поискать?...». Подумалось: а Вы бы наверняка заставили меня выкинуть эту песню, если бы мой фильм делался в Вашем объединении!
Он создал один безусловный шедевр—«Суд народов» (1946), фильм о Нюрнбергском процессе. Такая тема «выпадает» режиссеру, считайте, как исторический подарок судьбы. Но, в силу уникальности, этот опыт не может быть широко распространен: что мог дать мировой суд над главными нацистскими преступниками, например, мне, снимавшему кино про бамовцев и гидростроителей Сибири, о проблемах брежневского социализма (уже трещавшего по швам)? Герои и темы, в общем-то, диктуют и краски, и ритмы, и приемы построения композиции... Но «Суд народов» был прекрасным фильмом, причем вполне современным. Чувствовалось, что Кармен не просто гордился им,—это была, вероятно, его самая великая любовь (после Кубы)!
Как он, как оператор снимал в зале заседаний международного трибунала, вел репортажи наблюдения за «главарями» на скамье подсудимых? Помнится, Кармен рассказывал: «Геринг как-то обратил внимание на меня, советского кинооператора, и решил на мне испытать силу своего взгляда, а это была, конечно, сильная личность... Я, однако, не отвел своих глаз...». В фильме был использован прием, несколько похожий на «информацию к размышлению» в «Семнадцати мгновениях весны» Юлиана Семенова: камера выхватывала одного за другим знаменитых преступников на скамье подсудимых, и по каждому из них давалась документальная справка-характеристика. Хроника—и самая разнообразная—была использована в изобилии. В монтаже участвовала Елизавета Игнатьевна Свилова—опытнейший монтажер, жена Дзиги Вертова; ее вклад в создание фильма был, возможно, не меньше карменовского.
Особенно восхищался Кармен дикторским текстом, точнее—авторским монологом, комментарием Бориса Горбатова (который был причастен, наверное, и к драматургическим ходам фильма). Помню, Кармен нам говорил: «Какая блестящая фраза про крючкотворов—адвокатов нацистов: «Это—последняя линия нацистской обороны!» Текст вообще был так прекрасен, что я клал его (как ноты на рояль) перед собой на монтажный стол и монтировал под него!» (Последнюю фразу я запомнил дословно.)
Кармен монтировал под текст, в числе прочего, и эпизод, называвшийся, как и весь фильм, «Суд народов». В нем звучат слова: «Кто судит? Восстанут мертвые и живые, все народы всех стран придут на суд». «А тут еще,—говорил Кармен,—музоформитель предложил нам использовать здесь патетический фрагмент из симфонии «Манфред» Чайковского; под эту музыку у нас шествовали на экране люди из хроники—бойцы, партизаны, пленные...»
По технологии тех лет музыка озвучивала уже готовый монтаж. Я и сам клал на стол монтажную фонограмму с предварительно записанным дикторским текстом и подгонял под нее кадры. Это тот самый пункт, где можно сказать: «Кармен меня этому научил», или «я научился этому у Кармена» Хотя это, скорее, не урок, а «подсказка», какими вообще богата любая кинопрактика.
<…>
Почти дословно запомнилась мне речь Кармена—его урок в мастерской по поводу крупного плана на экране.
—Я стараюсь снять любое красивое—то есть выразительное—лицо, как только его увижу. Я не знаю и не задумываюсь (до поры до времени), зачем оно мне, как и с чем будет связано, в какой эпизод войдет и т. д. Это—мой «загашник», копилка, я помню о ней и пополняю, знаю по опыту: пригодится. Увидел красивую девушку—снял крупный план. Или старуху—морщинами изборождена, космы седые ветерок колышет, глаза глубоко запали, но горят, выжигают черным огнем, отлично! Старческие лица вообще выразительны... Мужественное, волевое лицо рабочего человека, скуластое, прокопченное солнцем; пусть он небрит—щетина тоже краска, порой о многом (о жизни, о судьбе) может намекнуть. А как прекрасны детские лица! Вообще—бездна разнообразия в человеческих лицах. Не поленитесь: остановитесь, подойдите, разговоритесь, объясните и попросите,—и обязательно снимите крупный план. Не думайте пока: зачем он вам? Снимайте на нейтральном фоне. Да, это, как правило, постановка, а не репортаж, но пусть это вас не смущает. Лицо зачастую (при чутком отборе) настолько само по себе мощно по потенциальной выразительности на экране, что «проглатывается», преодолевается возможная скованность, смущение или нарочитое позирование на съемке. Конечно, этого надо стремиться избегать, однако не у каждого, кто обладает «выразительным лицом», удается снять «торможение» перед кинокамерой... Так было на Кубе в 1960 году, где все лица нам казались, как нигде, прекрасными и особенно выразительными. В моем «загашнике» под конец съемок накопились десятки и десятки люд-ских портретов, и я забыл о них. Главное, естественно,—построение фильма в целом, генеральные идеи, эпизоды, в которых раскрываются герои фильма и т. д. И вот проходит достаточно много времени, я с головой погружен в монтаж картины. Наступает черед эпизода «Памяти Хосе Марти». Хосе Марти—кубинский революционер прошлого века, очень почитаемый в революционной Кубе наших дней. В день его гибели*** кубинцы, чтя его память, приходят на набережную к берегу океана. Это очень впечатляющая церемония: тысячи людей бросают в воду букеты, океанские волны колышут цветы... Все это было снято репортажно, и когда я сложил эпизод на монтажном столе, то почувствовал: чего-то тут не хватает... И вспомнил о своей копилке. Говорю монтажнице: где у нас коробка крупных планов? Пересмотрел все—и начал вставлять их. Летят в воздухе цветы… плещутся волны... скорбное лицо старухи, суровый взгляд мужчины… молодые лица—одухотворенные, но встревоженные. Куба грядущая—лицо ребенка, и я выбираю из копилки такое, где в наивности и открытости детского взгляда все же таится отблеск соседних кадров, сегодняшней борьбы. Выстраивается галерея портретов—целая их «сюита». Эпизод преображается. Боль, горе, скорбь, гнев, стойкость, вера в будущее, в победу, жертвенная готовность, выраженная девизом «Родина или смерть». И все это—не декларативно подразумеваемое, а зримо и чувственно ощутимое—в зрачках, морщинах, сединах, в лепке лиц и фактуре кожи, в чуть сдвинутых бровях или в случайном шраме на щеке, в едва проступивших усиках подростка или в дремучей бороде ветерана революции, в молочном тоне девичьих губ или в горестном изломе складок у беззубого рта старухи... А помните, из какого «сырья» извлечены все эти градации эмоций? Ведь портреты сняты были, считай, «бездумно», нейтрально, без конкретной цели, так сказать—для пополнения «коллекции»... И выражение лиц при съемке было весьма далеким от тех смыслов, которые представлены тут в моем описании—иногда даже обратным тому, который придал им контекст монтажа.
Я, пожалуй, был неточен, пообещав, что передам речь мастера «почти дословно». Конечно, это не язык Кармена, и, перенося свои воспоминания на бумагу, я подыскивал слова, точнее передающие мысль Кармена о разительной силе крупного плана лиц, но его рассказ о монтаже «эпизода памяти Хосе Марти» передан стопроцентно точно, он стереоскопически четко стоит перед моим мысленным взором. И прошу не обращать внимания на идеологическую «ангажированность» Кармена (его фильмов вообще и о Кубе, в частности), ведь речь идет о ремесле, перерастающем в мастерство. Карменовская «теория крупных планов» (скажу так условно) едва ли не единственное руководство, правило, к которому я прибегаю в своей практике совершенно сознательно. Бывают даже ситуации, когда прием с «крупняками» становится своего рода «палочкой—выручалочкой».
<…>
В фильме о нефтяниках Каспия есть «хрестоматийный» эпизод, вызывавший в свое время особые восторги кинокритиков—как образец «чисто карменовского» решения темы рабочего человека. Бригада знатного мастера Каверочкина долгие месяцы бьется на буровой, все бурит и бурит, но никак не может добуриться до нефти. Но—естественно—в один прекрасный день... забил фонтан нефти! Бурильщики счастливы и от избытка чувств, от переполняющей их радости победы, они начинают добытой нефтью мазать друг другу лица... По инерции откровений, что ли, Кармен признался нам в мастерской, что мазки по лицам—это вообще-то режиссерская подсказка... «Мы попросили бурильщиков слегка мазнуть своего бригадира, а Каверочкина—мазнуть в ответ их. И считаю, что ничего дурного в этом нет! Больше того, я уверен, что именно с тех пор, то есть после фильма, это вошло у нефтяников в традицию—первой нефтью мазать друг другу лица!»—энергично завершил мастер.
Надо заметить, что в те времена снимать такие эпизоды как репортаж—на натуре, тем более в море, с синхронной записью звука—было технически почти невозможно. Звук в случаях «постановки» был способен разоблачить этот «метод», в какой-то мере обнажить фальшь. Приемы Кармена и без того не соответствовали «нормам» современного документального кинематографа, в котором естественное поведение реального человека доведено до редких высот откровения. «Теплота» сцены с первой нефтью, «человечность» трудовой победы и соцреалистический пафос вообще, на сегодняшний взгляд, вызывают некоторое чувство неловкости: видно, что измазанный передовик-бригадир явно смущен, улыбается растерянно, не знает,—ну, сыграли, а дальше-то что делать? Но с точки зрения кондовых «эстетических» позиций эпохи Кармена, такой «утепляющий» штрих», как мазок нефтью по лицу, был новаторским открытием.
После первого фильма о нефтяниках Каспия знаменитый Каверочкин погиб во время шторма на буровой. Поэтому во втором фильме[14] упоминается об этом, и есть большой эпизод о столь частых на Каспии зимних штормах, делающих труд мужественных нефтяников крайне опасным. И вот—«коронный» эпизод фильма. «Мы снимали шторм документально,—говорил нам Кармен,—но естественно, на студии нам построили небольшой макет вышки, и я взял в монтаж кадр, где эта вышка начинает немного крениться... На нее «обрушивались» натуральные волны… Мы говорили при этом о гибели Каверочкина и вспоминали его живым...» Ну не анекдот ли, по нынешним временам?
А со временем, уже после ВГИКа, мы узнали из «кулуарных» воспоминаний сотрудников Кармена по фильму о нефтяниках Каспия, что корабли доставляли по заказу киношников авиамоторы -«ветродуи», пожарные шланги и насосы, с помощью которых «разыгрывались» штормы на Каспии. Как в игровом кино, на нефтяников, изображающих мужество и самоотверженность в труде, обрушивались съемочные ураганные порывы и водяные шквалы... Эта съемка была бы очень сложной и трудоемкой и для игрового кино, но фильм Кармена, конечно, был столь престижен для республики, а пробойная сила знаменитого кинорежиссера была так велика, что вероятно, из ЦК компартии Азербайджана было распоряжение: с затратами не считаться, содействовать документалистам...[15]
<…>
—Нет, было! Этого не могло не быть!—считает комментатор карменовских монологов, которого я далее не прячу в скобках: это мой сокурсник по мастерской, а ныне коллега Пээт Вяйнастуу, отличающийся пристрастием к обличениям своего бывшего мастера.
—Неужели ты ему веришь? Неужели ты думаешь, что Кармен стал бы деликатничать ради нужного ему кадра (как «ради красного словца»...)? Подумаешь, уставшие французы (к тому же—пленные), «издевательства»—ишь ты, нежности какие! Да у нефтяников Каспия он вытворял инсценировки похлеще!
(Кстати, я сам слышал такую историю****: якобы кто-то по неосторожности попал в лопасти авиамотора, имитирующего ветер, и погиб... было общее потрясение, но, когда тело прибрали, Кармен велел продолжать съемку).
—А помнишь Волоколамскую виселицу?
Тут я прерву Пээта и поясню: эту виселицу видели, должно быть, все, кто хоть раз смотрел документальные фильмы о войне. Когда в декабре 41-го разгромили немцев под Москвой и стали освобождать временно оккупированные города Подмосковья, впервые перед глазами наших солдат предстали фашистские зверства. Роман Кармен (снимавший как кинооператор) ворвался с войсками в Волоколамск, где на площади стояла виселица с повешенными коммунистами, комсомольцами. Он снял основательный сюжет для оперативной кинохроники. Впечатление от разлагающихся качающихся на ветру трупов, запорошенных метелью, само собой, было тяжелейшим...
Пээт продолжает:
—Ну, какое первое естественное чувство могло родиться у солдат, когда они увидели это жуткое зрелище? Конечно—снять трупы с виселицы, предать их земле. Но—оператор говорит: «Стоп! Это надо запечатлеть!» И очень подробно, монтажно, разнопланово, профессионально «обстреливает» виселицу. Но и этого мало. Ты знаешь, что там же, на фоне виселицы, еще был снят синхрон?
(Я, правда, никогда не слышал этой фонограммы, но о синхроне «гвардейца» под виселицей упоминается в книжке о Кармене, написанной в 1959 году.)
—По тем временам это было очень непросто—притащить громоздкую синхронную камеру и, пока казненные висят, покачиваются...—«Погодите, сейчас кинщики придут!» А знаешь, ходили слухи, что позже, уже ближе к концу войны, были случаи, когда в освобождаемых селах, городах тоже попадались виселицы, но если казненные уже были вынуты из петель, то по распоряжению Кармена их вешали для съемки обратно[18].
Между прочим, существует два фильма под названием «Великая Отечественная», и оба—карменовские. Второй—это знаменитые 20 серий, всеми, хотя бы один раз, виденные по ТВ (в США фильм показывался под названием «Неизвестная война»). А первый предназначался только для проката в наших кинотеатрах и вышел к 20-летию Победы в 1965-м году; состоял он из 12 частей. Монтировался этот фильм с использованием редкой хроники, фрагментов из документальных фильмов военных лет (многие из которых уже были забыты). Работа на ЦСДФ началась, вероятно, где-то в 1964 году; мы уже сдали госэкзамены, и нам предстояла преддипломная практика. Нескольким ребятам из мастерской Кармен предложил поработать у него ассистентами; среди них был и Пээт Вяйнастуу.
Это был едва ли не первый итоговый фильм таких масштабов о минувшей войне, и надо думать, производственные возможности у киногруппы, руководимой такой легендарной фигурой, как Кармен, были безграничны. Пээт вспоминал:
—Вся группа выписывала и смотрела любую хронику, какую ей заблагорассудится,—не важно, соответствовала ли она теме будущего фильма или кому-то просто хотелось развлечься зарубежной идеологической «клубничкой». Наше воображение поразил фильм «Диктаторы»,—построенный исключительно на хронике; его героями были Сталин, Гитлер, Муссолини, Мао Цзедун и, может быть, еще кто-то. «Все диктаторы любят выступать перед народом с пространными речами»,—говорил диктор, и на экране появлялась монтажная вязь из кадров, где ораторствовал весь тоталитарный цвет двадцатого века (кроме Фиделя Кастро). Ребята рассказывали, что при всем различии «героев» всяческие их ужимки, приемчики, трюки—вся позерская манера выступающих—были на удивление похожи и стандартны. «Посмотрите, как все диктаторы обожают детей»,—предварял диктор эпизоды, в котором чудные девочки и мальчики бегут с букетами цветов к различным «отцам народов»,—и Сталин, и Гитлер, и прочие кумиры одинаково гладят детские головки, треплют их по щекам, берут малышей на руки, ставят счаст-ливцев рядом с собой на трибуны и т. д. Может быть, потому, что нашему Мастеру были хорошо известны все приемы диктаторов, он и позволял себе многое…
Как-то шеф объявил нам, что сегодня мы будем «снимать хронику». Как так? А так—«военную хронику» поедем снимать... Уже все было приготовлено, подключено—естественно, и Министерство Обороны (Кармен не мог оставить в стороне его генералитет, делая такой фильм). В Подмосковье, в какую-то из воинских частей, была доставлена боевая техника времен войны, выделены солдаты, которые были облачены в обмундирование тех лет—форму Красной Армии и... вермахта. Погодите, всё по порядку! Ну, приехали мы со своей киноаппаратурой, военные обошли с нами «объекты», прикинули, наметили, что—где... Как положено, выпили маленько—и приступили. Сняли, правда, немногое, что-то получалось «не очень». Сняли три эпизода. Первый: стоит пушка, вокруг тела убитых, и только один «красноармеец», «раненый», кое-как перебинтованный, еще «воюет»—подбегает к ящику со снарядами, берет один, бросается к пушечке, заряжает, стреляет. Эпизод второй: «поле боя» обходит группа «немецких офицеров», один из них остановился над «телом красноармейца» и носком сапога с брезгливой небрежностью поворачивает голову «мертвого», чтобы разглядеть его лицо... Третий эпизод, я—хоть убей!—не могу вспомнить.
Я помню, как «Великая Отечественная» вышла на экраны кинотеатров в мае 1965-го, и я побежал в кинотеатр «Мир» смотреть фильм. Я буквально впивался в экран на протяжении полутора-двух часов, чтобы не пропустить те самые три эпизода. Я точно помню, что мое предельное сосредоточенное внимание «поймало» только один из них—другие, видать, просто не вошли в фильм... Но и этот один говорил о многом. Во-первых, кадр был снят с тыла батареи общим планом—всегда несколько «невнятным»; смысл того, что делает солдат (спина которого мельтешила у пушки), был абсолютно неясен. Глядя на экран, понять эпизод так, как он описан в рассказе Пээта, невозможно еще и потому, что он получился совсем коротким,—и был включен в нарезку таких же коротких кадров. Если бы я не слышал своего коллегу, то не отличил бы этот эпизод от других, и даже заметив, не смог бы определить—документален ли он или инсценирован... Ведь каких-то 3 секунды, должно быть... такая песчинка времени, и... стоило ли ехать куда-то, водку там пить, под дождем мокнуть? Что касается Министерства Обороны, там затрат тогда вообще не считали, все делалось по приказу, без обсуждений. Но надо быть очень «сытым» (конечно, в переносном смысле) человеком кино, чтобы, не задумываясь, позволить себе такую «пробу», такую блажь с пушками, солдатами, костюмами... Однако режиссер все же не решился пойти на открытую подтасовку, выдавать постановку за документ; поэтому он «замешал», замаскировал кадр с пушкой и бойцом, сражающимся «до последнего снаряда»—среди других, собственно хроникальных кадров, обрезал его до трех секунд…
Вспоминается еще рассказ Кармена, приведенный в какой-то книжке,—о том, как он снимал вылет бомбардировщиков с боевым (реальным) заданием[19]. Он долго объяснял командиру звена, что когда они долетят до цели, то все самолеты должны выстроиться перед бомбометанием в один ряд таким образом, чтобы он, оператор, сидящий с камерой в ведущей машине у бокового окна, всех четко видел на одной линии—так, чтобы один не заслонял другого... «У вас же есть свои нормы работы, так поймите и меня: я должен построить кинокадр композиционно грамотно»,—долго втолковывал Кармен летчику. А тот, должно быть, недоумевал: зачем эта парадная линейка, ведь главное—чтобы все бомбы в цель попали, там, внизу... Я помню этот кадр с самолетами в один ряд и отрывающимися от них бомбами—графически четкий, безупречный, красивый. В настоящем бою много грязи, крови, ужасов, а также, должно быть, хаоса, неразберихи и вообще «неуставных» положений—не только с точки зрения профессиональной этики, но и—идеологической.
Оказывается, ЦК ВКП(б) даже издал постановление о том, как нужно понимать «подлинную документальность»[20]. Фронтовая хроника первых месяцев войны—та самая «грязь», которая в наши дни называется не иначе как «потрясающая правда», «золотой фонд»,—была в этом постановлении объявлена зловредной, деморализующей и вообще, должно быть, ложью... Ну, известно, что теоретики соцреализма доказывают как дважды два, что белое есть черное и наоборот. ЦК даже оргвыводы сделал, и директором ЦСДФ был назначен... Сергей Герасимов—да, тот самый! Как он правил документалистами—со всем остервенением своей «праведности»—можно судить по тому, что именно при нем-то великий Дзига Вертов и «кончился» как режиссер. Ветеран ЦСДФ Н.Н.Кармазинский (ныне покойный) однажды при нас, молодых, вспоминал: «На все наши попытки поддержать заявки Вертова на фильмы о героях войны Герасимов отвечал: «Кто? Этот, что ли? Так он не справится!» Да и сам Кармен (появившийся, наконец, у нас в мастерской после поездки на Кубу), с особой снисходительной интонацией говорил о своем коллеге, умершем всего 6-7 лет назад: «Я хорошо помню его в коридорах студии, это скромный был человек, и, когда с ним заговаривали о манифестах его киногруппы в 20-х годов, он очень смущался, отвечал: ну, это были перегибы молодости...» И это Кармен говорил нам в 1961 году—о создателе «Трех песен о Ленине», признанном классике… Вертов не был для Кармена актуален—наш Мастер считал примерно так: «Подумаешь, кто-то там когда-то изобрел колесо! И малость похулиганил при том—прокатился задом наперед каким-то фертом—и продекламировал, что он гений... Мы люди серьезные, деловые, нами сотворенное—несравнимо существеннее, но коли здесь речь идет о том, что называется «данью памяти»—это пожалуйста...»
<…>
Я, должно быть, написал много «гадостей» о нем. Но я не был неискренен, когда, выступая во ВГИКе на защите своего дипломного фильма в мае 1965 года, говорил обязательные («приличествующие случаю») слова благодарности в адрес Романа Кармена. Смысл их был прост, но, ей -богу, правдив: «Он привил мне (думаю, и большинству своих учеников) интерес к человеку на экране, заострил внимание к нему». Это был, конечно, первотолчок. А для того, чтобы реализовать на пленке этот интерес, это внимание—понадобились еще годы и годы кинопрактики.
Но был и еще один аспект моей благодарности. Правда, тогда осознать его я мог гораздо менее отчетливо, чем понятие «человек на экране». Я имею в виду то, на что обращал внимание еще К.С.Станиславский: «человек в искусстве»,—то есть систему этики по отношению к Делу, не одно только мастерство. Профессионализм кинорежиссера состоит не только в умении выдумать, изобрести, нафантазировать некое художественное качество—форму, воплощающую содержание. Это, в известной мере, зависит от природной одаренности—развиваемой, шлифуемой, питаемой творческой практикой. Но не в меньшей степени профессионализм проявляется и в умении воплотить, добить, пробить задуманное—в ленту. Овеществить замысел. Такое умение—что это? Свойство характера? Воля, упорство… да, это хорошо, но что, если нервы у тебя все-таки не стальные, лоб—не таран, сокрушающий броню, а воля—не великая гидроплотина, противостоящая давлению морей? Иногда жизнь сплошь кажется созданной для того, чтобы ты отказался от своей профессии... Настолько всё—против твоего фильма… Особенно хочу подчеркнуть здесь величайшую враждебность искусству всяческого чиновно-редакторского, административного руководства кинематографической работой… Но если может и не быть в твоем характере таких «железных» качеств (которые, на мой взгляд, по моему предположению и догадке, были идеально, абсолютно, стопроцентно воплощены в Романе Кармене), в нем должна быть безмерная любовь к искусству, фантастическая преданность ему, страстная жажда воплотить свою идею. Ты можешь тысячу раз проиграть, сломаться, впасть в отчаянье, но если есть в тебе эти самые необходимые свойства, они позволят подняться, собраться, рвануться в Дело и возрадоваться! Не может быть, чтобы на этом тернистом пути и тебе не перепало бы чего-то от побед, от высокого удовлетворения всеми этими хлопотными киношными занятиями.
Говорят, Станиславский спросил девушку, пылко мечтавшую о театре: «А вы готовы уйти в монастырь?»—«Зачем, К.С.?!»—«Искусство—то же самое».
Беспощадность, бескомпромиссность к себе—как главная норма. Ну и уже потом, если необходимо,—безжалостное (в любых «модификациях» и трансформациях) отношение к другим—ко всем тем, от кого зависит твое кино, будь то твой сотрудник, твой «герой» или чиновник «над тобой».
И тогда не велик грех—прости, Господи!—погонять колонну французских военнопленных по горам, «мариновать» всю ночь стариков, дабы «смерть в глазах» глянула с экрана... и так далее, и тому подобное... Здесь уже каждый режиссер сам установит себе норму «дозволенного».
Кажется, я исчерпал все, что хотел рассказать о Кармене в рамках своей темы (и чуточку «сверх того»), а напоследок, кидая назад «прощальный взгляд», подвожу итог—не мыслям, а чувствам: несмотря ни на что и, пожалуй, прежде всего,—Мастер был дорог нам, им хотелось любоваться.. «Мастер» означало «Учитель». «Учиться у Кармена» значит—и в мастерской Кармена, и, главное,—у самого Кармена.
* Любопытно, что в 1978 году (после смерти Кармена) Ленинская премия была как бы обесценена коллективным награждением всех режиссеров двадцатисерийного фильма «Великая отечественная», инициатором и главным автором которого являлся Кармен.
** «Пятое лето Виталия Сургутского» (1969).
*** Впрочем, я, может, путаю его с днем Че Гевары.
**** Ее рассказывал, ссылаясь на очевидца, ныне покойный Л.Л.Веренинов, работавший тогда помощником звукооператора на Бакинской киностудии.
1. См.: К о л е с н и к о в а Н., С е н ч а к о в а Г., С л е п н е в а Т. Роман Кармен. М.: «Искусство», 1959. (Здесь и далее прим. ред.).
2. «Советский Туркменистан» (1950), реж. Р.Кармен.
3. Кулиев Эльдар Тофик оглы (р. 1941)—азербайджанский режиссер, автор документального фильма «Самед Вургун» (1966, с Я.Эфендиевым) и ряда художественных картин, в том числе «В этом южном городе» (1970), «Счастья вам, девочки» (1973), «Бухта радости» (1977), «Низами» (1983).
4. Аранович Семен Давидович (1934–1996)—режиссер, оператор. В 1965–70 гг. работал на ЛСДФ. Снял документальные фильмы «Время, которое всегда с нами» (1965), «Друг Горького—Андреева» (1965), «Дело Анны Ахматовой» (1989) и др. Как режиссер поставил игровые картины «Сломанная подкова» (1973), «Летняя поездка к морю» (1978), «Рафферти» (оба—1980), «Торпедоносцы» (1983), «Год собаки» (1994) и др.
5. Микеладзе Вахтанг Евгеньевич (р. 1936)—режиссер-документалист. Снял много документальных и научно-популярных фильмов, в том числе: «Строители дороги» (1962), «Плач оленя» (1969), «БАМ» (1975), «Впереди коммунисты» (1978), «Комсомолец» (1980) и др.
6. Коновалов Владимир Федорович (р. 1935)—иркутский режиссер-документалист.
7. «Седовцы» (1940), реж. Р.Кармен, М.Слуцкий.
8. Вермишева Екатерина Ивановна (1925–1998)—режиссер-документалист. Речь идет о фильме «Славное десятилетие», который не был закончен из-за смещения Н.С.Хрущева. Снятый материал Е.И.Вермишева использовала впоследствии в другом фильме.
9. Сурин Леонид Андреевич (1940–1984)—режиссер-документалист.
10. «С песней по жизни» (1963–64).
11. Лапин Сергей Георгиевич (1912–1990)—в 1970–85 гг. председатель Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию.
12. Здесь, очевидно, ошибка: в прокате фильм назывался «Государство—это мы».
13. Косинов Александр Павлович (р. 1936)—режиссер-документалист. Работал на Украинской студии кинохроники, где снял фильмы «Мужество» (1967), «Пятьдесят лет советской Украине» (1968), «Советская Украина» (1973), «Ум, честь и совесть эпохи» (1977), «Слово о пятилетке» (1981) и др.
14. Имеется в виду карменовский фильм «Покорители моря» (1959).
15. Ср.: «Снимая фильмы «Нефтяники Каспия» и «Покорители моря», я не задавался целью показать, как добывается в море нефть. Хотелось создать образ героического трудового коллектива, раскрыть характеры людей в не выдуманных, а подсказанных самой жизнью обстоятельствах. С документальной точностью передали мы факты, события, свидетелями которых были, находясь в море в общей сложности почти год» (К а р м е н Р о м а н. Но пасаран! М.: «Советская Россия», 1972, с. 328).
16. «Ленинград в борьбе» (1942), реж. Р.Кармен, Н.Комаревцев, В.Соловцов, Е.Учитель. Роман Кармен работал на этом фильме и как оператор.
17. «Вьетнам» (1955), реж. Р.Кармен.
18. Согласно еще одной версии этого явно бродячего сюжета, трупы заставляли вешать на виселицу другие режиссеры. Что касается «разноплановой», «монтажной» съемки, то это очень похоже на стиль Кармена: например, точно так же он снимал трупы детей, погибших после бомбардировки Мадрида фашистской авиацией.
19. Ср.: «Мысленно я все время вижу кадр, который мечтаю снять. Четыре или пять—не меньше—самолетов в кадре, и ни один из них не заслоняет другого. Из открывшихся бомболюков сыплются бомбы. Такой кадр необходим.
Командир полка Забелин как-то сказал:
—На мой взгляд, одного-двух полетов было бы достаточно, чтобы снять строй самолетов, бомбометание. Может, я чего-нибудь не понимаю, объясните мне.
Я объяснил. Даже нарисовал ему схему нужного мне кадра.
Забелин внимательно слушал.
—Так неужели же один самолет,—он ткнул пальцем в мою схему,—будет в момент бомбометания заслонен, скажем, хвостовым оперением другой машины, неужели из-за этого вы будете считать необходимым снова лететь?
—Поймите, товарищ подполковник, это не упрямство, а профессиональная необходимость. Вы ведь требуете от своих подчиненных высокого качества в боевой работе?
Забелин поднял руки вверх—сдаюсь!..» (К а р м е н Р о м а н. Указ. соч., с. 91).
20. Очевидно, речь идет о разгроме довженковского сценария «Украина в огне», учиненном Сталиным.
Информацию о возможности приобретения номера журнала с полной версией этой статьи можно найти здесь. |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.