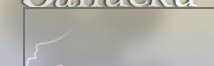|
 |
|
Зигфрид КРАКАУЭР
переводчик(и) Серафима ШЛАПОБЕРСКАЯ
О ЗАДАЧЕ КИНОКРИТИКИ
Франкфуртский съезд владельцев кинотеатров дает мне удобный повод высказаться несколько шире о задачах независимой кинокритики,—той кинокритики, какую мы уже не один год пытаемся культивировать во «Франк-фуртер цайтунг». Внутри капиталистической экономики фильм—это товар, такой же, как другие товары. Он создается, за исключением некоторых аутсайдеров, не в интересах искусства или просвещения масс, а ради той выгоды, какую сулит принести. Во всяком случае, это относится к основной массе фильмов, с которыми постоянно имеет дело кинокритик.
Как должен он к ним подходить? Такие фильмы бывают сделаны когда лучше, когда хуже и, в зависимости от использованных средств и сил, поставлены с бульшим или меньшим размахом. Само собой разумеется, что критика—и как раз газетная критика—должна это учитывать, но на самом деле многие критики, оценивая какие-либо фильмы, подчеркивают лишь те подробности, которые отвечают (или не отвечают) их вкусу.
Однако таким, преимущественно субъективным, отношением задачу критика по отношению к кинопродукции среднего уровня ограничивать нельзя, поскольку посредственные кинофильмы—это и не произведения искусства, и не представляющий интерес товар, для которого достаточно чисто вкусовой оценки. Скорее они выполняют чрезвычайно важную социальную функцию, мимо которой ни один кинокритик, если он заслуживает этого названия, пройти не может.
Действительно, чем опереточные, военные, комедийные и т.п. фильмы беднее эстетическим содержанием, тем весомее становится их социальное значение, которое невозможно переоценить. В самом захудалом местечке ныне имеется свой кинотеатр, и каждый мало-мальски ходовой фильм по тысяче каналов доходит до массового зрителя в городе и деревне. Что он сообщает зрительским массам и в каком смысле на них влияет? Вот это и есть те кардинальные вопросы, какие ответственный наблюдатель должен задать посредственным киноизделиям.
Здесь можно было бы возразить, что, хотя многие фильмы явно следуют политическим и социальным тенденциям, большинство из них все же стремится только к предельной занимательности или к дешевой развлекательности. Возражение это одновременно справедливо и несправедливо. Конечно, самые типичные фильмы силятся выказать отсутствие тенденции, но это отнюдь не значит, что они не представляют определенные социальные интересы опо-средованно. Так и должно быть, ибо с одной стороны, производители фильмов, укорененные в господствующей экономической системе, не могут прыгнуть выше головы, с другой—в целях лучшего проката они вынуждены удовлетворять желания и потребности платежеспособных слоев населения. Другими словами, они зависят от потребителей, судьба которых также, в общем и целом, связана с современным состоянием общества.
Итак, задача серьезного кинокритика, на мой взгляд, состоит в том, чтобы выявить и вытащить на свет те социальные намерения, которые этого света нередко боятся и которые в посредственных фильмах часто проявлены весьма завуалированно. Ему, например, придется показать, какую социальную картину сообща создают бесчисленные фильмы, в которых некая мелкая служащая достигает не снившихся ей высот, или какой-то влиятельный господин не только богат, но и наделен отзывчивой душой. Ему придется, кроме того, сопоставить вымышленный мир этих и других фильмов с социальной действительностью и обнаружить, насколько неверно первый отображает вторую. Короче говоря, видный кинокритик не может не быть критиком общества. Его миссия такова: разоблачать скрытые в посредственных фильмах социальные представления и идеологии и, тем самым, подрывать влияние самих этих фильмов везде, где это необходимо.
Я намеренно говорил только о должном критическом отношении к посредственной кинопродукции. Фильмы, таящие в себе глубокое содержание, были и остаются редкостью. При их рассмотрении акцент, естественно, не следует делать только на социологическом анализе. Последний должен быть насыщен неотъемлемым от него эстетическим анализом. Однако рассмотреть здесь трудности подобного насыщения не представляется возможным.
(1932)
КИНОХРОНИКА
Кинохроника, какая бы студия ее ни выпускала—УФА, «Фокс» или «Парамаунт»,—задалась честолюбивой целью: охватить не менее чем весь мир. Однако мир, представленный в этих хроникальных обзорах, вовсе не настоящий: это лишь то, что остается от мира, когда из него выхвачены только важные события. Это жалкие остатки мира, которые киноиндустрия либо и впрямь принимает за Вселенную, либо подсовывает их публике лишь для того, чтобы заслонить от нее вид истинного мира. Во всяком случае, мне кажется несостоятельным тот довод, который приводится в кругах самих продюсеров в защиту обычной еженедельной кинохроники: мол, по причине ничтожности средств приходится ограничиваться показанными там событиями. Нет, не бережливость заставляет наших хроникеров бежать от мира, а неосознанный, или, быть может, даже сознательный страх перед необходимостью снять с него чары. Ибо если наглядно представить вещи и события такими, каковы они сегодня, и как они происходят обычно, то посетители кинотеатров могут забеспокоиться и усомниться в добротности нашего нынешнего общественного устройства. Заинтересованная в нем киноиндустрия, естественно, этого хотела бы при всех обстоятельствах избежать. А поскольку она не в силах обеспечить народу хлеб, то демонстрирует ему цирковые представления, которые подкармливают его иллюзиями.
Частью постоянного репертуара являются стихийные бедствия. Если даже признать, что горящие танкеры, железнодорожные катастрофы и обширные наводнения являются благодарнейшими кинематографическими сюжетами, то признание этого факта отнюдь не оправдывает регулярное возвращение к этим сюжетам. Не опровергает это и существование других, по меньшей мере столь же благодарных тем, разработка которых с познавательной точки зрения была бы намного полезней.
То, что фабриканты кинохроники таких шансов не используют, а упорно держатся за землетрясения и ураганы, проистекает не в последнюю очередь из стремления уклониться от тех событий, что разыгрываются в человеческом обществе. С помощью картин разбушевавшейся природы, к которым возвращаются снова и снова, у зрителя попутно создается представление, что и социальные потрясения столь же неотвратимы, как катастрофические наводнения. Он, зритель, которого постоянно потчуют разгулом стихийных сил как злободневными событиями, невольно переносит их закономерность на человеческие обстоятельства и, в конце концов, неизбежно смешивает кризис капиталистической системы с каким-нибудь землетрясением. Такое воздействие кинохроники, если и не запланировано, то во всяком случае желанно заинтересованным лицам. Оно равнозначно мифологизации социальной жизни, заставляет верить в неотменимость наших институтов и парализует волю, нацеленную на их изменение.
Сцены с детьми и животными сменяют буйство стихий. Наверняка, еще не выдалось такой недели, когда бы зоология не справляла свой триумф, и какое-нибудь дитя не вызывало бы восторга у публики. Выступления от случая к случаю этих существ, не принадлежащих (или пока еще не принадлежащих) к социальному миру, были бы законным развлечением; но их непрерывный показ—признак желания отвлечь взрослых от действительности. Чтобы не быть вынужденными разоблачать эту действительность, которая делает людей больными, изготовители фильмов показывают на экранах страну детства, утоляя тем самым жажду публики увидеть мир в представлении ребенка. Засилье малышей на экране отвечает желанию широких слоев населения отрешиться от зрелости, которая обязывала бы их сознательно всматриваться в социальные отношения. По легко понятным причинам они противятся преобразованию существующего порядка и потому, вместо того, чтобы мужественно смотреть в глаза беде, стремятся назад, к существам, что этой беды еще не ведают. Мне вспоминается один фильм о животных, который Гагенбек комментирует в манере, какую нельзя не назвать ребяческой. Я вовсе не намерен упрекать его, скажем, в том, что слониху он с самого начала именует «фрау мама». Его тон показывает только одно (и для меня это как раз самое важное)—любовь к малым детям и животным объясняется той инфантильностью, которая присуща массам (или которую им прививают). И с этой искусственной ребячливостью прекрасно сочетается закоренелое пристрастие к природе, которой до тошноты пичкают зрителя не только ленты о разгуле стихий, но и вошедшие в моду фильмы о научных экспедициях.
В силу неписаного закона—закона привычности—в кинохронике постоянное место отводится также спортивным соревнованиям. Они мелькают перед нами с упорством, граничащим с монотонностью, наряду с освящением памятников, спуском на воду линкоров, маневрами и другими громкими событиями. Они редко могут по-настоящему захватить, зато часто выражают реакционную тенденцию или вообще ничего не значат—просто служат затычками. В Германии, в Соединенных Штатах, в Англии—повсюду на одинаковых аренах и неизменно при огромном наплыве восторженных людских масс происходят футбольные матчи, мотогонки или бега, но нам никогда не дарят экранизации этих событий. Те стереотипные спортивные ленты, которые мы знаем еще до того, как их увидим, несомненно имеют целью не только удовлетворить соответствующие запросы публики, но также укрепить опасное преувеличение роли спорта. Слишком частый пов-тор спортивных лент придает спорту значение, какое ему вовсе не подобает в сравнении с социальной и политической деятельностью, и мешает показу многих событий, которые более актуальны, чем спортивные. Таким образом, он выполняет примерно ту же функцию, что и беспрерывное повторение сцен с детьми и животными. Впрочем, торопливость большинства спортивных репортажей служит доказательством того, что они являются выражением бездумности, желания закрыть людям глаза и заткнуть уши, дабы они лишились зрения и слуха.
Некоторое время тому назад одно радикальное кинообъединение, ныне уже переставшее существовать, сделало попытку составить из материала, найденного в киноархивах, выпуск кинохроники, которая действительно вникала бы в наши дела. Ему пришлось смириться с цензурными изъятиями, да и вообще долгая жизнь этой хронике отмерена не была. Тем не менее, данный эксперимент показывает, что другая композиция кинохроники, отличающаяся от привычной, могла бы способствовать большей ее убедительности. Кроме того, мне кажется, что киноиндустрия, не подвергая себя сколько-нибудь существенному риску, спокойно могла бы представить на экране наш мир чуть более широко, нежели это делается сейчас. В Германии найдется еще много такого, что следовало бы заснять, и, возможно, публика ничего не имела бы против, если бы ее время от времени информировали о человеческих (и нечеловеческих) обстоятельствах, при которых мы живем.
(1931)
<…>
ФИЛЬМ-«ВАМП»
Американская картина «Жил-был дурак» («A fool there was»), увидевшая свет в 1915 году, вкратце и оттого в несколько гротесковом плане освещает тему женщины-вамп, которая вплоть до 1925 года была в большой моде. Теда Бара, первая вамп в кино, высаживается из такси на пристани под взглядами прохожих, привлеченных видом кинокамер; какой-то нищий открывает ей дверь со словами: «Смотри, что ты из меня сделала!». На палубе корабля она встречает недавно брошенного ею любовника; в очередной раз получив отказ, он на ее глазах пускает себе пулю в лоб. Корабль отходит от причала, и вот уже на том же месте, где лежало тело несчастного влюбленного, она пленяет почтенного отца семейства, которому машут с берега. В последнем кадре зритель, предчувствуя несчастье, видит их поглощенными любовными утехами под пальмами на одиноком острове.
Эта фабула типична для всех картин о роковых женщинах. В них «фемм фаталь» всегда обладает необъяснимой властью над сердцами бедняжек-мужчин и неизменно уничтожает все то, к чему прикасается. Лидия Борелли, звезда раннего послевоенного итальянского кино, очаровывает и завлекает мужчину, умоляющего ее выслушать его друга; в тот момент, когда он поддается злым чарам, снаружи раздается выстрел—это застрелился его друг, подслушивавший под окном. Не случайно фильм этот назван «Сатанинская рапсодия»: ведь господин и повелитель чертовки—сам сатана, облаченный в развевающийся плащ и появляющийся то из-за занавески, то из-за розового куста.
Шире всего этот жанр эксплуатируется в Голливуде: такие актрисы, как Пола Негри, Глория Свенсон и Грета Гарбо, здесь пошли по следам Теды Бара. В картине «Плоть и дьявол» по роману Зудерманна «Былое», типаж «фемм фаталь» принимает завершенную форму, развивается до логического предела. Нужно видеть своими глазами ту изысканность, с которой Грета Гарбо в ночном парке вкладывает сигарету сначала в свои уста, а затем и в губы своего партнера Джона Гилберта, воспламеняя вместо сигареты самого Гилберта, чтобы по достоинству оценить мастерство соблазнения, присущее женщине-вамп в кино и столь редко встречающееся в наши дни. Его бесовская подоплека раскрывается в сцене в церкви: в то время как пастор с кафедры гневно обрушивается на грех прелюбодеяния, Грета Гарбо, на которую направлена его проповедь, безучастно красит губы на церковной скамье. Кажется, в те времена губная помада была признанным символом греха, ибо и в немецкой картине «Ложный путь» она отмечает «фемм фаталь». Бригитта Хельм, увлекаемая на диван сильными руками боксера Брайтенштеттера, поправляет краску на губах с таким хладнокровием, как если бы уже находилась на диване. Этот, в общем-то, хорошо сделанный фильм Г.В.Пабста отличается от других подобных картин своей социологической окрашенностью, объясняющей появление подобного женского типа всеобщим разложением нравов, вызванным инфляцией, в то время как в классических образцах жанра героиня подается как порождение темных сил, врывающееся в обывательский мир подобно гибельному метеору.
Само собой разумеется, деструктивные силы во всех фильмах этого рода в итоге терпят поражение. Ни один киножанр не сравнится по степени морализаторства с фильмом «вамп», который, кажется, чувствует себя вынужденным оправдаться перед общественностью за то безобразие, о котором повествует и которое вполне соответствует частным вкусам публики. В финале «Сатанинской рапсодии» сатана сует героиню головой в фонтан, после чего, наклонившись над зеркалом вод, она с ужасом понимает, что превратилась в старуху. Законы бюргерского общества празднуют победу и в фильме «Плоть и дьявол». Мало того, что Гарбо, несмотря на раскаяние, тонет в озере; Гилберт еще и примиряется со своим другом и просит руки его младшей сестры Хильды, девочки из сказки в духе Куртс-Малера. Победа маленькой Хильды над Гарбо знаменует собой окончательное изгнание беса и водворение добродетели. Наполовина иллюзия, наполовину пугало—вот двойная миссия фильмов о роковых женщинах.
В результате растущей свободы нравов этот киножанр постепенно исчез с экрана, поплатившись за былую популярность. Старые фильмы «вамп» отжили свой срок, не говоря уж о том, что драматическая интрига в них построена по театральному принципу... Повод к небезынтересному наблюдению дает внешность «фемм фаталь». Призванная очаровывать, она сильно уступает голливудскому идеалу женской красоты, пришедшему ей на смену. Лидия Борелли по сравнению с ними лишена какой бы то ни было привлекательности, а Грета Гарбо, как бы ни была она красива, не обладает тонкостью черт, присущей актрисам последующего десятилетия. Удивителен тот факт, что специфически американский идеал красоты возникает в строго определенный момент. Возможно, его возникновение связано с тем, что в обществе возникает стремление отвлечься от неразрешимых экзистенциальных проблем и в связи с этим фильмам с претензиями на содержательность угрожает отсутствие зрителя. Появляется потребность в приманках внешнего характера. Однако изобилие красивого в кино вполне извиняет недостаток содержания, благо красота содержательна сама по себе.
(1939)
<…>
МОРИЦ СТИЛЛЕР И ШВЕДСКИЙ ФИЛЬМ
Кто помнит широко известные после войны немые шведские фильмы, поставленные Виктором Шёстремом и Морицем Стиллером, тот помнит возникающие перед его внутренним взором чудесные ландшафты, среди которых разыгрываются людские судьбы (подобные тем, что описывает Сельма Лагерлёф). Это воспоминание не обманывает. При новой встрече с некоторыми работами Стиллера выясняется, что шведские фильмы на самом деле перерабатывают особую материю. Их содержание определяется тем, что город на Севере отступает на задний план перед морем, землей, небом, а люди всё еще достаточно едины со стихиями, чтобы не только сочинять, но и проживать легенды. Поскольку видения глубоко проникли в жизнь этих людей, сроднившихся с сумерками, то в шведском кино они приобретают характер реальности. В фильме Стиллера «Vieux Manoir»* («Старое поместье») задремавшей Ингрид ночью видится «Госпожа Горесть»—одетая в лохмотья, подобная летучей мыши старуха с выпирающей челюстью, которая правит каретой, влекомой медведями, и предрекает несчастье. Может быть, Ингрид все это только снится? Однако она, вполне бодрствующая, подходит к своей странной гостье, но старуха, сидящая теперь тут же, в комнате, в шезлонге, прогоняет девушку и, снова усевшись на козлы, укатывает прочь. Госпожа Горесть—это фантом, и в то же время она столь же осязаема, сколь какое-нибудь дерево или животное.
То, что предлагает сюжет, становится полновесным благодаря манере своего кинематографического воплощения. Сильное впечатление, какое и по сей день еще производят эти фильмы, тем более примечательно, что они противоречат множеству правил, согласно которым люди с тех пор научились судить о фильмах. Шведские фильмы охотно демонстрируют красивые картины, поступаются внешней динамикой и отказываются от монтажных эффектов. Степенно шагают они вперед, и в сравнении с ними любой русский немой фильм грешит чрезмерной жестикуляцией. Однако их манера не воспринимается как слабость. Напротив, несмотря на заведомый недостаток подвижности и проворства, шведские фильмы чисто кинемато-графически весьма увлекательны.
Причина здесь в том, что медлительность, с какой они разворачиваются, объясняется не тяжеловесностью, а точным соблюдением той меры времени, какой требуют сами предметы. Стиллер умеет отводить легендарным событиям и переживаниям людей, слитных с природой, столько времени, сколько требуется для того, чтобы их вообще можно было изобразить. Если сцена из «Саги о Йесте Берлинге», где волки гонятся за санями, запоминается надолго, то это вызвано как раз ее продолжительностью. Правда, ни один миг в этом эпизоде не остается пустым, ибо пока сани всё едут и едут, тусклый блеск снега вокруг, лицо Греты Гарбо в санях и вожжи, ходящие вверх-вниз и как бы задевающие ее лицо, непрерывно дают новые поводы для волнения.
Столь же незабываемо в «Старом поместье» знаменитое бегство стада северных оленей, вожак которого тащит за собой пастуха Нильса. Оно тоже своим воздействием обязано медлительности своего изображения. Час за часом человеку мнится, будто он стал свидетелем отчаянной гонки, заканчивающейся тем, что Нильс сходит с ума и в ужасе отшатывается от собаки, на голове которой ему чудятся оленьи рога. Нет сомнений, что убедительность этой галлюцинации основана на подробном изображении охваченного паникой стада и мучений пастуха, которые Стиллер рисует перед этим. Он не торопится—и таким образом дает возможность действительно проявиться процессу, который может развиваться лишь медленно (или не развиваться вообще). Стиллер не только не затягивает темп, а наоборот, так уплотняет череду событий, что у зрителя захватывает дух.
Только теперь объясняются частые длинноты в шведских фильмах при показе картин природы или портретов людей. Вместо того чтобы прерывать действие, эти картины становятся его неотъемлемой составной частью. Они делают наглядным бытие, в котором действие в узком смысле слова проявляется весьма нерешительно; чем глубже они трактуют природу, тем отчетливее человек осознает ее как решающую силу. Если бы эти картины не углублялись в ландшафт, то остались бы непроясненными судьбы людей, которые сами глубоко связаны с этим ландшафтом. Возможно, что красота этих картин обусловлена также чистой атмосферой Севера, которая позволяет оператору охватить всю глубину пространства. Но они наверняка прекрасны прежде всего потому, что исходят из еще относительно цельного знания тех отношений, какие существуют между способностями человека и событиями, между силами природы и человеческими решениями. Где бы в шведских фильмах ни возникала окружающая среда, она имеет некую функцию, а красота—побочный продукт этой функции. Легко понять, что предпосылкой такой убедительности является общение с настоящими предметами и явлениями. Утреннее солнце, которое в фильме «La vengeance de Jacob Vindas»** («Месть Якоба Финдаса») проникает сквозь окна церкви и озаряет лицо бабушки, должно быть действительно утренним солнцем, чтобы иметь возможность исполнить отведенную ему роль. Шведы не зря избегают эрзац-средств, насколько это возможно. С другой стороны, однако, они обычно окрашивают законченные сцены в какой-либо единый тон,—розовые интерьеры чередуются с пейзажами синего местного колорита. Хотя этот вышедший из моды прием служит лишь созданию настроения, иногда он помогает подчеркнуть значение какого-то пассажа—с помощью символики определенного цветового оттенка. Бывают желтые ощущения и фантазии зеленого цвета...
(1938)
<…>
АБСТРАКТНЫЕ ФИЛЬМЫ
Берлинское общество «Новый фильм» поставило себе целью показывать вместо обычного игрового действа такие ленты, которые, по-видимому, рождены самим духом кино. Это не перевод литературных сюжетов на немой язык оптики, а изначально оптические события, какие перевести на какой-либо другой язык невозможно. Немецкие и французские кинорежиссеры уже не один год пытаются это сделать; однако лишь парижские авангардные кинотеатры предоставляли возможность познакомиться с совокупностью их работ. Основание Берлинского общества тем более следует приветствовать, что оно намерено сделать свои программы доступными и в провинции.
Во Франкфурте были представлены некоторые опыты, позволившие оценить как возможности, так и границы новых тенденций в кино. Предварительно следует сказать, что речь почти сплошь идет о попытках, которые если не по времени, то хотя бы по своим намерениям суть свидетельства экспрессионизма,—то есть того художественного направления, которое воображало, что может передать содержание без предмета.
В «Диагональной симфонии» Викинга Эгелинга (1917)*** ритмично движутся вперемешку полосы света, гребни крыш и другие геометрические фрагменты. Кажется, будто ожили картины в духе определенных произведений Пикассо. «Киноэтюд» Ганса Рихтера (Х.Х.Штукеншмидт создал музыкальную иллюстрацию к нему) запускает в облачный хаос шары, которые преображаются в глаза; превращает камни мостовой в узорчатую решетку, начинающую раскачиваться. Еще более отчетливо в фильме «Эмак Бакиа» Мана Рея показано происхождение абстрактной конструкции из конкретных предметов. Отражения в воде там переливаются в необычные орнаментальные образования, а обыкновенные стоячие отложные воротнички затевают очаровательные подвижные игры. Фильм графа Этьена де Бомона получает в итоге сияющие световые эффекты с помощью медленно вертящихся стаканов и отражающих зеркал. Поскольку для него важна также визуальная демонстрация скорости, то он в бешеном темпе носится по Парижу—и в метро, и на пароходе.
Все дело в том, чего добиваются этими фильмами. Несомненно, что значат они тем больше, чем непритязательнее выглядят. Через них действительно каким-то небывалым доселе образом открывается новый мир пространственных конфигураций. Оптическими завоеваниями большого размаха являются не только те кинофрагменты, в которых неподвижная орнаментика начинает вдруг заниматься примечательными гимнастическими упражнениями. Есть целые серии картин, где то ли из-за выбора точки зрения, то ли по причине изоляции частей близкого нам мира вещей, выделяются и варьируются мотивы, уже не соответствующие знакомым аспектам. Произвольное изменение абстрактных фигур и конкретных предметов—тема, которую кино даже не может достаточно полно разработать, ибо, берясь за эту тему, оно обогащает арсенал наших представлений формами и знаками, которые однажды могут стать их содержанием.
Однако (и это существенно) частичные открытия подобного рода—не самоцель. То, что они привносят—это материал, который еще ждет применения в своих истинных взаимосвязях. Показанные фильмы в подавляющем большинстве представляются композициями, которые заведомо ложно возводят материал на уровень содержания и оттого становятся выхолощенными и манерными; таким был и экспрессионизм как определенное направление искусства. Эгелинг полагал, что маневры его диагоналей создают симфонию; другие тоже выстраивают свои впечатления как некое целое, уверяя, будто они этим целым являются. Между тем их обращение от игрового фильма к фильму беспредметному по своей художественной позиции есть всего лишь «посмертная революция», чья бесплодность давно уже проявилась в области живописи и изящной словесности. Эти композиции можно было бы считать мечтами на языке образов, но они не являются даже этим—по причине своего слишком систематического сцепления. Говоря со всей прямотой, они представляют собой лишь кое-как стилизованное скопление выразительных элементов. Соединяясь в самостоятельные образования, они решительно ничего не выражают, поскольку в своем бессмысленном соединении лишаются как раз той связи с действительностью, какая только и могла бы придать им значение. Киносимфонии так же, как произведения экспрессионистской живописи, заглохнут в прикладном киноискусстве.
Для того чтобы сделать полезными вновь найденные пространственные мотивы, следовало поставить крест на утверждении их самоценности. Этим мотивам и комбинациям надо было бы не противопоставлять себя реалистическому кино, а врасти в него, дабы подарить ему более полную реальность (что, впрочем, во многих фильмах уже и произошло). Они что-то значат, если помогают интенсивно представить себе жизнь людей и вещей, а не отгораживаются от нее. Лишь благодаря теснейшей связи с реальностью, а не освобождению от нее, обретают они смысл содержательных знаков. Чего стоят все абстрактные композиции в сравнении с одной-единственной гримасой Чаплина? Разве что их элементы могли бы послужить его человечности.
«Маленькая Лили», единственный игровой фильм этой программы, снят Альберто Кавальканти на основе уличной песенки. Прекрасная идея—образно представить шлягер—воплощена в этом фильме с большим остроумием и фотографической тщательностью. Очаровательная грустная песенка, какую можно было бы причислить к еще совсем не разработанному жанру камерного гротеска, оставляет далеко позади привычные ныне образцы американского гротеска.
(1928)
<…>
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЕ
ВЫРАЖЕНИЕ ПОДСОЗНАНИЯ Эти замечания касательно различных, недавно вышедших экспериментальных фильмов вызваны растущим интересом к этому жанру. «Синема 16»—организация, которая специализировалась на распространении всевозможных авангардистских фильмов; свою первую программу она представила прошлой осенью в Нью-Йорке, распродав билеты на большую часть сеансов на много дней вперед. Такой же интерес возник в Лос-Анджелесе, Чикаго и Миннеаполисе. А Амос Фогель, молодой руководитель «Синема 16», рассказал мне о неизвестных любителях, чьи киноэксперименты настолько многообещающи, что он планирует показать их в предстоящих вступительных программах. Видимо, возникает авангардное движение. По всей вероятности, своим рождением оно во многих отношениях обязано широко распространенному недовольству расхожей ныне голливудской продукцией.
Майя Дерен, которая получила стипендию Гуггенхейма (чьи фильмы, пожалуй, наиболее известны из этой группы), сняла четыре экспериментальные картины; все они, кроме одной, отображают психическую реальность в предметности внешнего мира. Это уже бывало и раньше, особенно у Жермен Дюлак в ее фильме «La coquille et le clergyman» («Раковина и священник», 1928). Однако Дерен продолжает это направление с такой жизненной силой, что ей удается наполнить старые схемы новой жизнью.
Фильм «The Meshes of the Afternoon» («Послеполуденные сети», 1943), который она поставила вместе со своим мужем Александром Хаммидом, одним из наших лучших кинооператоров, изображает душевное состояние фрустрированной девушки. Эта девушка возвращается домой с прогулки и застает свою квартиру разгромленной: все находится в ужасном беспорядке, как будто бы ее муж или любовник внезапно убежал. Она засыпает в кресле, и в ее сне с болезненной настойчивостью разворачивается то, что она испытала в этом покинутом доме. Это происшествие, как показывает сон, вызывает у нее такое чувство, будто она навсегда отвергнута миром. Изображая настроения этой девушки, Дерен соединяет психологическую проницательность с кинематографическим чутьем, которое позволяет ей использовать экспрессивные функции различных киносредств. Сумрачный призрак одетой в черное женщины с зеркалом вместо лица дает понять, что спящая девушка не может пробить кору, отделяющую ее от других людей. Сознательное повторение целых серий событий, лишь слегка, в деталях, отличных друг от друга, символизирует ее полнейшую стагнацию. А сцена, показывающая, как девушка (или одна из ее инкарнаций) спешит следом за медленно шагающей женщиной и все же не может ее догнать, иллюстрирует напрасные усилия девушки преодолеть свою заторможенность.
Фильм «At Land» («В деревне», 1944) разрабатывает ту же тему, особо подчеркивая вызванные фрустрацией нарушения в восприятии времени и пространства. Девушка-нимфа, которую волны выбросили на берег, чувствует, что только в море у нее есть «твердая почва» под ногами. За чем бы она ни погналась, всё от нее удирает в нескончаемом бегстве вещей, людей и ситуаций. Она незаметно переползает через стол, который стоит в комнате, где происходит какое-то торжество; подходит к двум девушкам на берегу, которые продолжают играть в шахматы так, словно бы они ее вообще не заметили; прокрадывается в какой-то деревянный дом и, напуганная незнакомцем в постели, снова убегает оттуда через двери, следующие одна за другой; в конце концов, она возвращается обратно в море. Для души, способной поведать о себе, мир, таким образом, становится серией беглых явлений. А это расшатывает время: воспоминания и происходящие на наших глазах события сливаются воедино.
Следующий эксперимент Майи Дерен—трехминутный фильм «Choreography for Camera» («Хореография перед камерой», 1945)—по-видимому, обязан своим появлением ее растущему интересу к проблемам формы. Ее работа с пограничными психологическими состояниями вытесняется теперь стремлением создать с помощью подвижной камеры соотношения пространства и времени. Некий танцор разбегается для прыжка в лес, а приземляется в комнате. Таким образом он вертится и перемещается из одной декорации в другую и в конце концов взлетает и уносится перед скоростной кинокамерой в какую-то местность—его последнюю истинную цель. Этот фильм, как говорит Дерен, «дуэт пространства и танцора».
Ее последний фильм «Ritual in Transfigured Time» («Ритуал в транформированном времени», 1945–1946) разрабатывает опять, на более взыскательном уровне, лейтмотив фрустрированной девушки. На сей раз внутренняя жизнь девушки материализуется в образе негритянки, воплощающей желания и страдания ее изначальной души. Подобно своим предшественницам, эта женщина пытается бежать из тюрьмы, которой для нее является ее Я; однако, в противоположность им, она погибает лишь после того, как познала любовь. С художественной точки зрения этот фильм представляет собой шаг вперед, ибо стремится к синтезу формы и содержания, танца и психологии. Сцена сборища, где масса народа не замечает негритянку, снята и смонтирована так, что из нее получается танец, в который вовлекаются все люди и вещи. Майя Дерен сумела с помощью ритма выразить некий смысл; проблема лишь в том, к чему этот смысл сводится.
В снятом летом 1946 года фильме «The Potted Psalm» («Наркотический псалом») Сидней Петерсон смешивает в манере Майи Дерен фрагменты реальности с нереальными элементами. Однако на этом сходство кончается. Слегка соприкасаясь с известными сюрреалистскими экспериментами двадцатых годов, этот фильм является серией слабо связанных между собой ассоциаций; человек без головы, затем две трущихся одна о другую ступни, человеческая нога, превращающаяся в ножку рояля… В программном буклете утверждается, что «Спрятанный псалом» толкует о «хаотичных внутренних переплетениях в нашем послевоенном обществе». Такая интерпретация, пожалуй, слишком благожелательна, так как создатели фильма не способны придать своим стремлениям кинематографичность. Работа оператора мало этому способствует, да и «монтаж» ритмически не структурирован, поэтому смысл фильма до конца не выражен.
Некоторые недавно появившиеся экспериментальные фильмы, изображающие беспредметные структуры, демонстрируют интересные результаты. «Glen Falls Sequence» Дугласа Крокуэлла—оживление картин, намалеванных на различных подвижных, помещенных одна над другой стеклянных пластинках—связывает неизвестные формы со смутно знакомыми элементами в некий универсум, невозможный и достоверный одновременно. По неясной причине скапливаются микроорганизмы; грибы бродят по ландшафту в духе Танги4; нескончаемо распускающиеся цветы покрывают лист, вырастающий из тучи, похожей на чернильную кляксу; компактные массы испускают из себя по капле какую-то жидкость или наполнены мельчайшими кристаллами, которые вылезают из вдруг открывающихся щелей; печная труба превращается в пилу, которая пытается распилить пополам собственный дым.
Современное естествознание насмехается над законом причинности и усматривает в массе выражение энергий. Материя находится в непрестанном движении, все субстанции в принципе взаимозаменяемы. Крокуэлл ловит естествознание на слове и превращает геометрические формы в органические, а органические—в геометрические. Он остроумно играет в Провидение и Судьбу. Его абстрактные композиции либо вырастают из кактусов и тому подобных вещей, либо порождают новые создания, похожие на животных. Между тем то и дело всплывают культурные реминисценции. Из урны вдруг появляется череп, и белый крест возвышается на чем-то, что может быть горным хребтом, горой отбросов или приливом кипящих волн.
На стипендию Гуггенхейма Джон и Джеймс Уитни сняли ряд короткометражных фильмов—«Abstract Film Exercises» (1943–1945), в которых они пытаются установить эстетически значимые отношения между формой, цветом и звуком. Формы берутся из бумажных вырезок, звуковые эффекты создает машина, которая регулирует форму светового луча, падающего прямо на звуковую дорожку. Такие эксперименты не новы, однако братья Уитни (хоть они и не слишком изобретательны в том, что касается ритма и образного воплощения) оставляют позади все предыдущие эксперименты позади. Их видение—это видение людей так называемой атомной эпохи. И руководимые этим видением, они доходят до крайности в изображении космоса, наполненного не чем иным, как частицами материи, вихрящимися и взблескивающими то красным, то зеленым, дрожащими и мерцающими в безграничном пространстве. Крошечные шарики мчатся вперед, превращаются в ослепительные солнца и опять исчезают. Таким образом, атомы бесцельно носятся вокруг, и их игры сопровождаются музыкой, сильно напоминающей тот шум джунглей, какой мы знаем по фильмам о войне в Бирме и на Гвадалканале. Похоже, что человечеству крайне трудно утвердиться в этой точке пересечения космической и животной жизни.
(1948)
*«Gunnar Hedes Saga» («Сага о Гуннаре Хеде»).
** «Fiskebyn».
*** Окончена в 1921 г.
S i e g f r i e d K r a c a u e r. Kino. Essays, Studien,
Glossen zum Film. Herausgegeben von Karsten Witte. Suhrkamp Verlag. Frankfurter am Mein, 1974. S. 57–61. Информацию о возможности приобретения номера журнала с полной версией этой публикации можно найти здесь |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.