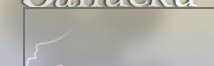|
 |
|
Валентина ХОВАНСКАЯ
Любая смерть потрясает, а смерть, внезапно случившаяся ранним утром 2-го июля 1979 года и унесшая шестерых молодых, красивых, талантливых… была как разрыв бомбы. Она мгновенно отодвинула ушедших в недосягаемое. Они стали историей, памятью, образом, не замутненным чувством нашего бытийного и неизбежного соперничества… Теперь они больше никому не возразят, не ударят в споре, смерть очистила их от быта и выявила истину высшего порядка. Эта смерть взорвала привычные установки окружающих, они как бы прозрели и высказались о Ларисе и ее творчестве от души. Все было оценено нелицеприятно, все понято, все почтено. Все отдали,—как личности Ларисы, так и ее творчеству—искреннюю дань восхищения и признательности. Спустя 25 лет я, случайно не оказавшаяся в той роковой машине, читаю то, что написано о Ларисе. Написано много, хорошо и полно. Ко всему сказанному о ней могу добавить только свои личные воспоминания о работе с ней, о том, что видят, слышат и переживают люди в процессе повседневных рабочих кинобудней, о том, что скрыто от тех, кто смотрит готовый, «созревший» фильм. По образованию я—кинооператор, окончила ВГИК в том году, когда Лариса в него поступила. Двенадцать лет я работала ассистентом, вторым оператором, оператором-постановщиком, но так случилось, что здоровье мое подорвалось и, чтобы больше не болеть, мне надо было менять профессию. У меня был некоторый опыт работы режиссером. Директор моего объединения, Агеев, понял меня, но высказал опасения по поводу режиссеров-постановщиков. Действительно, к кому бы я ни обращалась, все сочувствовали, но объятий мне никто не раскрывал. Время шло, шло, и, наконец, Агеев с великим сомнением предложил мне встретиться с Ларисой Шепитько. Я видела эту высокую, стройную, красивую и самоуверенную женщину, стремительно шагающую, можно сказать, летящую, по коридорам студии. Пройти мимо нее, не отреагировав на эту выдающуюся внешность, я, как оператор, естественно не могла и поинтересовалась у Раисы Петровны, секретаря объединения, кто это. Ответ был весьма многозначительный, и теперь, когда Агеев назвал ее фамилию как мой последний шанс я только спросила: «А почему у нее нет второго режиссера?». «А потому,—пробурчал Агеев,—что к ней идти боятся». У-у! Но, впрочем, мне терять было нечего. Не знаю, как Агеев представил меня Шепитько, но мне был назначен день встречи. Чтобы избежать неловкости, я сразу же сказала Ларисе, что фильмов ее не видела, о ней толком ничего не знаю, но мне нужна эта работа по всем моральным и материальным соображениям. Изъясняя все это, я заметила, что она смотрит как-то странно, как будто прислушивается к чему-то в себе. Когда я высказалась, наступила пауза, длинная. Потом она, словно встрепенувшись, задала мне пару вопросов о моей работе с Де Сантисом на картине «Они шли на Восток». Я ответила. Опять пауза, длинная… и вдруг: «Скажите Агееву, чтобы прикреплял вас к картине. Мы—в режиссерской разработке. Возьмите сценарий, прочтите, потом поговорим». Пауза. И все. Так просто. Когда я через два дня пришла к ней с прочитанным сценарием «Ты и я», мой первый вопрос был: «А куда это вы, Лариса Ефимовна, смотрели во время нашего первого разговора?» Она рассмеялась, красивый у нее был смех, и сказала: «А я пыталась понять, какой вы группы крови, Валентина Алексеевна». Я вытаращила глаза. В дальнейшем я убедилась, что Лариса, в основном, именно так шла по жизни и среди людей. Интуиция при первой встрече, мгновенная подсознательная реакция на суть, прозрение о балансе совместимости. Принятие—неприятие. «Моя группа крови,—не моя группа крови», «Чужая группа крови…», «И не настаивайте, не моей он (она) группы крови». Вся происходившая в дальнейшем на моих глазах работа с актерами у Ларисы начиналась именно с этих мгновенных встреч. Приходил актер, заходил к Ларисе, посидел, поговорил, вышел и уже по его виду понимаешь: произошло, не произошло. Эти встречи и для Ларисы определяли главное: да—нет. Естественно, что «да» влекло за собой много встреч, разговоров, репетиций, обрастание костяка мясом, кожей. Иногда этот путь бывал очень и очень негладким, иногда и не приводящим к положительным результатам. Многие актеры говорили о гипнотических глазах Ларисы. «Пока смотрю вам в глаза, все понимаю, знаю, что надо делать, а не вижу глаз—и теряюсь, путаюсь». Лариса обычно отвечала на это: «Держите это состояние в памяти, продолжайте его, выращивайте». «Выращивайте»—было слово, которое часто употреблялось в ходе работы: «Выращивайте образ», «Выращивайте состояние», «Выращивайте отношения». Как-то зашел с ней разговор об этом слове. «Можно ведь сказать—выстраивайте».—«Нет, нет,—сказала она,—выстраивайте»—это расчетливое, планируемое, техничное. «Выращивайте»—это живое, трепетное. Выращивают детей, цветы». Лариса действительно «выращивала» отношение актера к образу, выращивала любовь к будущему «дитяте», не жалея сил, не считаясь со временем, веря в конечный результат и уверенно ведя за собой актеров в рощу своих мыслей и чувств. Ларисе нужно было слияние с актером, его бесконечная вера в нее, и, когда это случалось, она раскрывалась полностью, рассыпала все самоцветы своей души, щедро отдавая свою энергию, любовь, знания. Она расцветала, хорошела необыкновенно, и смотреть на двух самозабвенно работающих людей было так же прекрасно, как наблюдать птиц в свободном полете. Конечно, не всегда происходило стопроцентное слияние, не всегда образ расцветал всеми теми красками, которые задумывала Лариса. Бывали и неудачи. Их она всегда анализировала и не боялась быть к себе беспощадной. В режиссерский и подготовительный периоды во всех группах, как правило, много говорят об актерах, предполагаемых на те или иные роли, прикидывают и так и сяк все возможности, все данные того или иного актера. У Ларисы этот этап проходил иначе. Обычно она вела подробные беседы о сути образа, подробнейшим образом рассказывала о том будущем человеке, который оживет на экране. Говорилось именно о живом человеке, с привычками, привязанностями, биографией. Смотрелись бесчисленные фотографии актеров, но не на предмет их немедленного вызова и репетиций, а для уяснения ближайшими помощниками внешнего облика, фигуры, специфических черточек. Лариса упорно добивалась на этом первом этапе работы, чтобы все представляли себе будущий образ живым конкретным лицом. Только когда ассистенты начинали «встречать» на улицах наших персонажей и делиться впечатлениями с Ларисой, она просила начинать искать актеров на роли. <...> В трех главных ролях «Ты и я» Лариса уверенно видела Беллу Ахмадулину, Юрия Визбора и Леонида Дьячкова. Дьячков вызывал некоторые сомнения, и поэтому на роль Петра мы пробовали разных актеров. Перед пробой Высоцкого Лариса сказала: «Парень он хороший, но Петр… не-ет».—«А зачем же тогда пробовать, пленку тратить?»—возразила я.—«Неожиданности бывают… изредка, а потом мне интересно его актерское нутро… может быть, когда-нибудь…» На роли Кати и Саши мы почти никого не пробовали, Лариса была в них абсолютно уверена. «Икебана» выстраивалась неплохо, и худсовету было что показать. Но там мы встретили дружное непонимание и непримиримость. Во-первых,—всласть долбали сценарий. Вы только подумайте! Сценарий о сомневающемся человеке, о человеке недовольном… Только подумайте, человек, советский человек, недоволен, задумываться, видите ли, ему не дают (это о герое Визбора), а другой мотается по стране, тратит государственные деньги, и вообще все это—блажь режиссерская, слишком вам много на «Крыльях» позволяли, Лариса Ефимовна, критику наводить… Во-вторых, худсовет особенно дружно восстал против кандидатуры Беллы Ахмадулиной, и, если с Визбором кое-как согласились, то что касается ее, все были категорически против. А еще нам набросали такое количество замечаний—буквально по каждой странице сценария. Цензура—вот с чем я, бывший оператор, столкнулась на этом худсовете. На картине «Они шли на Восток» я уже видела кое-что подобное, но все-таки не в такой мере. Не художественный совет, а просто свора недоброжелателей, так и слышится: «Враг, враг, трави его». Со временем я узнала, что не всегда худсоветы бывают столь непримиримы, хотя умных подсказок и верных оценок было маловато, но к другим режиссерам относились мягче и снисходительнее, чем к Ларисе. По отношению к нашему материалу обсуждение выглядело как заведомая установка: «ругать», «не давать», «не пущать». Ахмадулина была отвергнута, и мы остались без героини, а время подпирало—пора было отправляться в Норильск и начинать съемки. Ассистент по актерам в Норильск поехать не смогла, и я, новоиспеченный режиссер, отправилась в экспедицию без ассистента, только с молодым начинающим помрежем Любой, девочкой добросовестной, но совсем еще неумелой. Вся экспедиция в Норильск осталась в памяти как страшный сон (вернее, бессонница, потому что во время нашего пребывания там стояли длиннющие полярные летние дни и солнце скрывалось только часа на два. Дел было ужасно много, и сразу же начались неприятности—то актер не прилетел, то Наташу Бондарчук, перешедшую улицу не в положенном месте, забрали в милицию, то массовка требует освобождения от основной работы… Да и сам город, к великому удивлению нашему, оказавшийся порождением бывшего Гулага, принес такие новые сведения о родной стране, что не только задумаешься, но и ужаснешься. Но все когда-нибудь кончается, окончился и круговорот съемок в Норильском карьере. Сокращенной группой мы перебрались в Игарку. После грандиозности карьера, после единственной улицы Норильска, круговорота съемок перед нами раскинулась величавость Енисея, воздух наполнили трубные басы океанских пароходов, тундру, с ее скудной растительностью, сменила тайга. И был незабываемый вечер: нам перепала огромная рыбина, мы ее спроворили—и вечером Лариса, Леонид Марков и я впервые спокойно поужинали. Расходиться не хотелось, и Лариса с Марковым затянули украинские песни. У Ларисы был на редкость красивый и сильный голос, контральто, и абсолютный слух… «Вы бы могли быть оперной певицей, Лариса Ефимовна!» «Нет,—засмеялась она,—не-ет, я не актриса, я не исполнитель, я—режиссер. Я хочу знать, мыслить, чувствовать и чтобы другие поняли то, что мне в моих мыслях и мечтах открывается». За время бешеной работы в Норильске я оценила сметливость Ларисы, ее увлеченность, ее тонкий вкус и меня просто поразило ее удивительное умение погружаться в себя,—некое «публичное одиночество», отрешенность от происходящего. Когда же она находила решение, то мгновенно возникала стремительная энергия, сметающая любые возражения. Она была на площадке воплощением творческой мысли, невольно я вспоминала «Мыслителя» Родена,—ее погруженность в себя была так же значительна и красива. Кое-кто в группе тоже заметил эти ее состояния и шутил: «Все, стоп, Чапай думать будет, а потом… психическая атака!» По окончании экспедиции мы все чувствовали удовлетворение. Поработали на славу, и материал очень даже, мягко говоря, выразительный. Но худсовет встретил его с кислым лицом. Ни «да», ни «нет», так, серединка на половинку… И актрисы все нет, а пора отправляться в Ялту. Да, актрисы нет, это правда. Устроили «совет в Филях», кого же брать? За время нашего отсутствия ассистент по актерам поговорила и поснимала многих актрис, долго обсуждали кандидатуры, выкладывали «икебану». Ничего не складывалось. Лариса хмурилась, и нам стало ясно, что мы стоим перед фактом отмены экспедиции из-за отсутствия актрисы. Запахло скандалом, и тогда Лариса нехотя сказала: «Есть у меня про запас… но! Очень «но», хотя и лучше всех других… Я ее пока не принимаю, понимаете, Белла была то, что надо, что необходимо картине». Так появилась Катя—Алла Демидова. Экспедиция в Ялту отличалась от экспедиции в Норильск только тем, что ассистент по актерам была с нами и мне меньше досталось работы с актерами. Работали достаточно четко: съемка, краткая беседа—обсуждение прошедшего дня и задел на завтра, акцент на основные узлы в опасности. Потом проверка актеров, разговоры с ассистентами, вызывной лист и скорей в постель. Одним словом—работа. Четкая, осмысленная и ежедневная. Эта четкость и определенность прервались с нашим возвращением из Ялты и очередным худсоветом. Ну, уж постарались! Придирки были ко всему—и то не так, и это не этак… Начались очень тяжелые дни—бесконечные пересъемки. Нас обязывали показывать материал редактуре почти ежедневно. И каждый раз—неизбежно—следовали замечания, указания, требования и, как следствие, пересъемки. Иногда приходилось переснимать целые сцены. Для того, чтобы снять сцену заново, ее, во-первых, надо было переписать, затем заново собрать актеров… Перед Ларисой стояла трудная задача—новую сцену нужно было не только придумать, но и создать нечто эквивалентное забракованному, тому, что занимало определенное место, несло смысловую нагрузку. В общем, не работа по разработанному, выношенному и продуманному сценарию и постановочному проекту, а перекраивание, переделывание, латание. К сожалению, Шпаликов был не в состоянии активно включиться в этот нервный и трудоемкий процесс. Предстояла одна из многочисленных пересъемок. На один день прилетел из Ленинграда Дьячков, а текста нет. Лариса послала меня к Шпаликову... <...> Эта картина многое проявила и в людях, работавших над ней. Волей или неволей она заставила некоторых из них пересматривать и свою жизнь, и себя. Ларису это тоже не обошло стороной, и она написала и рассказала об этом своим друзьям. На банкете Лариса сказала мне: «Готовьтесь к следующей работе… Только вот когда это будет…» И действительно, прошло четыре года, прежде чем она сказала мне: «Читайте “Сотникова” Василя Быкова». <...> При первом обсуждении с Ларисой нашей будущей работы она высказала следующие соображения и пожелания: «Идея идеей, но ее воплощение… от нас будет зависеть насколько воплощение будет соответствовать идее. Все должны этой идеей проникнуться, и поэтому я хочу снимать картину, насколько возможно, последовательно. Надо, чтобы актеры наполнились образами. И начать снимать нужно с натуры, надо всем померзнуть, почувствовать зиму всеми клетками. Далее, надо учесть опыт “Ты и я”, учесть, что возможны пересъемки, поправки… количество съемочных дней и все остальные параметры должны быть… понимаете, В.А.? Смета должна быть составлена так, чтобы мы чувствовали себя, хотя бы с этой стороны, защищенными от неприятностей». Она помолчала, а потом добавила: «Я больше не допущу уродования моего кино, не дам бюрократам и чинушам испортить мое… мое, выстраданное. Истина должна возобладать. Но!—она подняла свой указательный палец.—С ними надо бороться… Я уже говорила с Машеровым. Он мужик что надо. Партизан… и оч-чень умный… наш человек. Я уверена, он поможет. Знаете, хватит проколов. “Ты и я” для меня—тяжкий опыт. Надо уяснить, что без стратегии и тактики нам с этой картиной несдобровать». Меня удивило такое высказывание. «Вроде бы нет ничего такого “анти”, “анти” в “Сотникове”, чтобы испугать наши верхи». И тут Лариса взорвалась: «Если вы так считаете, то не понимаете, о чем эта картина!»—«Растолкуйте не эзоповским языком, ведь мы, как никак, единомышленники. Я понимаю стратегию с Машеровым и одобряю, но нет ничего такого в “Сотникове”, что насторожило бы наших начальничков…» Лариса задумалась, а потом сказала торжественно: «Это кино… вы читали Библию, В.А.?»—«Библию?—удивилась я.—А при чем тут она?»—«Вот вам задание—почитайте Библию и поймите, что основой человеческой личности является духовность. Духовность—центр личности. Именно эту,—основную—особенность человека мы и будем исследовать в наших героях. Стадная нравственность нашего времени, в стране, где от Бога отказались, поверхностна, и это мы должны понять через Рыбака. Сотников—другое дело, он нравственен так, как Бог задумал. Поймите, существует вечная проблема Понтия Пилата, существуют и другие вечные проблемы. И все они во все эпохи человечества повторяются… в новом обличии, но суть та же. Проблема Сотников—Рыбак—вечная проблема, она из тех, которые изначала стоят перед человеком, которые определяют его качественный уровень… И эта проблема—проблема Христа и Иуды… Понятно, при чем тут Библия?» «Вот это да! Так вы, что, задумали этот фильм как библейский сюжет?»—«Не я его задумала. Его время требует, а я только исполнить это должна».—«Понятно, почему вы так много говорите о стратегии и тактике, о единомышленниках». Следующий разговор Лариса провела с ассистентом по актерам Эллой Баскаковой, и прямо ей сказала: «Держите в голове образ Иисуса Христа, икону». Элла Баскакова, человек умный и сообразительный, сказала: «Понятно, икона. Только вслух об этом…»—«Ни-ни»,—рассмеялась Лариса. И начались поиски. <...> О Портнове Лариса говорила: «Ищите актера, близкого по внешним данным Плотникову. Они похожи, но Портнов—антипод Сотникова по внутренним убеждениям. Это должен быть очень хороший актер. Их поединок, да, да, поединок с Сотниковым—вечный конфликт, вечное сражение духа и бездуховности… Умирающий, страдающий Сотников побеждает потому, что он силен духом. Он умирает и возносится над своим мучителем». Солоницын сначала не увидел ничего интересного в этой, как он сказал, «роли второго плана», но Лариса говорила и говорила с ним, раскрывала ему грандиозность своего видения вечной исторической борьбы духа и бездуховности, вечной борьбы человека с животным в себе во имя высшей ценности, какая только есть, ценности духа: «Любить другого как самого себя». Вот мы и должны Сотниковым доказать, что человек, наконец, дозрел до бытия духовного, до утверждения духовного как нормы жизни… Думаете, откуда у нас двойная мораль?»—вопрошала нас Лариса и, подняв многозначительно палец, вещала: «Не дозрели личности. Рыбак, Портнов—не дозрели, а Сотников, Староста, Демчиха и Зося дозрели, потому и идут умирать за правду-матушку. Мы в войне победили потому, что у людей было высокое самосознание. Сила общества—в силе его личностей. Вспомните, в “Ты и я” Петр осознал свой грех и встал на путь изменения себя, это и есть сотворение человека». После таких «лекций» невольно думалось о своем поколении, привыкшему к молчанию и даже осуждению верующих в Бога, обученному верить в коммунизм, то есть только в человека… Эти, «шестидесятники»,—другие. В результате войны и исторической смены фаз развития, они—новые, они хотят знать, они больше не верят, что всякие там Печорины—лишние люди, они чувствуют вечную связь отцов и детей, преемственность и повторение истории, они говорят: «Пора делать выводы. Кто их не делает—обречен на повторение пройденного». Они хотят и понимают, что общество—это единство разных, но от их духовных и душевных качеств зависит качество этого общества. Они хотят исследовать проявления личности. Наше поколение долго учили быть «настоящими людьми», и война была испытанием, которое далеко не все выдержали. Оказалось, что испытание выдержали не те, у которых «бытие определяет сознание», а те, у которых сознание и мораль определяет бытие. Эти могут преодолеть в себе животное во имя высшего духовного. Но «духовность»—всегда связывалась человечеством с понятием Бога… Да, когда человек выбирает между жизнью и смертью ценой предательства другого, это уже относится к вечному в истории, это уже заповеди Священного Писания. «Нет выше того, кто положит душу свою за ближних своих». Вот что твердила нам Лариса. А еще она говорила: «Выбор! Наш вечный выбор, определяющий жизнь нашу. Вспомните Петра из “Ты и я”. За выбором стоит личность... Всем героям “Восхождения”предстоит такой выбор, и большинство из них предпочитают умереть ради другого... Потому и фильм называется “Восхождение”… восхождение к высшей реальности…». <...> Когда мы представили пробы худсовету, наши мосфильмовские чинуши просто отказались их утверждать и отправили нас в Госкино. Этот поход должен был, по сути, решить судьбу картины—время нас поджимало, и надо было уже отправляться в экспедицию. Лариса почему-то верила, что в Комитете нас поймут. Действительно, «поняли». «Это вы что же, Лариса Ефимовна, Иисусика на советский экран протащить хотите? Нам нужен герой, в которого дети играть будут! Нам Чапаев нужен, а вы… И фамилия у актера какая-то… Плотников… Не еврей?» И пошли мы, «солнцем палимы», но на пороге Комитета Лариса обернулась и погрозила пальцем закрытым дверям: «Не дождутся! Дети будут не играть, они верить в Сотникова будут, они в дух человеческий поверят! О! Какая это должна быть сцена, когда Сотников, уже готовый проститься с жизнью, ищет того, кому отдать дух свой и видит... маленького мальчика! Вы понимаете, какой это должен быть мальчик?... И он в шлеме... со споротой звездой. Он, именно он—молодой преемник высокой духовности предков,—он—смысл истории, связь веков. Сегодня определено “вчера”, а “будущее” определяется “сегодня”. Нет, не дождутся, я им Борю не отдам. Не отдам!» Мы все молча сели в машину. Упала тишина. Когда мы уже подъезжали к студии, я вдруг поняла, что Лариса не просто молчит, а еле удерживается от слез. Она почувствовала мой пристальный взгляд и вдруг жалобно, совершенно по-детски сказала: «Что же делать, В.А.»—«А, что делать? Хотят Чапаева—дайте им Чапаева».—«Это каким же образом?—«Ну, каким… Вызовем, загримируем, дадим задачу быть Чапаевым. Он—актер хороший, сделает».—«Я на это не пойду»,—зло сказала Лариса.—«Пойдете, сами мне сто раз объясняли, что нужна тактика и стратегия». Помолчали, а, когда уже выходили из машины, Лариса сказала своим обычным голосом: «Вызывайте Плотникова.—И прибавила ядовито:—Он им сыграет Чапаева». <...> Когда мы с новыми пробами приехали в Комитет, они уже поостыли и новый облик Бори вызвал одобрение: «Вот, другое дело, а то Иисусик!» Когда мы вышли из Комитета, Лариса сказала: «Уничтожьте этот позор, эти “пробы”». Работа над постановочным проектом благодаря Юрию Ракше была выверенной, четкой, все было продумано и нарисовано. Лариса повторяла знаменитую кинобайку: «Фильм готов, остается его только снять». Съемки начались 6 января, в день рождения Ларисы и… То, что давало себя знать уже на пробах, встало в полную силу—оператор, которого так хотела Лариса, повел себя, мягко говоря, странно. Медлительность, уже появившаяся на пробах, в условиях зимы, снега, холода и мерзнущей массовки, была просто чудовищной. Я уже высказывалась на этот счет, теперь же возмущению не только моему, но и других членов группы не было предела. «Ладно,—сказала Лариса,—материал посмотрим, решим». И вот пришел материал, и он был… Я ушла с просмотра. Все, подготовленное с таким трудом,—как говорится, коту под хвост. Я уже легла спать, когда без стука ворвалась Лариса—и сходу: «Что будем делать? Только без “я говорила”, ну…»—потребовала она.—«Делать что? Менять его надо, притом немедленно».—«Заменить-то… Ке-ем?»—«А давайте позвоним Павлику Лебешеву. Я с ним дружу, телефон есть».—«Да ведь ночь, вроде…»—«Ничего, он поймет». Павлик приехал к нам на недельку и снял горящий объект с массовкой, но … ему надо было ехать на свой фильм. Лариса и Павлик долго совещались, а потом Лариса пришла ко мне и сказала: «Паша говорит, что есть только один человек, который сможет снять так, как надо, но!»—«Что, но?»—«Ты его знаешь, и отношения у тебя с ним… не очень…» Я обрадовалась: «Так это—Чухнов! Ура! Это тот оператор! А с его характером вы справитесь!» «То есть?—не поняла Лариса. Я объяснила: «Он оператор-то, что надо, но на картине у Щукина я с ним ругалась. Представьте—я вызываю массовки огромное количество, а на экране ее нет. Кадры отличные, а массовки нет, а мне за это отвечать».—«Так вы из-за этого ругались?»—«О, еще как! Но надеюсь, что здесь у нас будет по-другому, да и постановочный проект, и Ракша не дадут ему, хоть и гениально, но своевольничать». И Володя Чухнов приехал, и… Это был настоящий оператор. Первый же материал подтвердил точность попадания. Снова как бы кто-то отсек лишнее, и картина получила необходимого ей оператора. <...> 3. После окончания картины у меня тяжело заболел папа, и я сидела у его постели. Изредка звонила Лариса, ободряла, напоминала, что впереди новые дела. «Как вы там? А то мне некоторые предлагают себя во вторые…»—«А вы?»—«А я сказала, что у меня есть второй и я его до смерти не сменю». Однажды Лариса радостно сообщила: «А я только что из Америки. Предлагают снять фильм. Как ты относишься к Голливуду? Почитай сценарий». Мне сценарий не понравился—обычная американская история о муже и жене, пионерах, зимующих в хижине на берегу озера, об их жизни и повседневной борьбе за выживание, особенно им докучают волки. Мне показалось, что сценарий «не Ларисиной группы крови», о чем я ей и сказала. «Да,—согласилась она, не совсем то, хотя… Волки, зима, если все переделать… Голливуд как-никак, а ты вспоминай свой английский». Я возражала: «Голливуд! Наверняка снимать придется в Подмосковье, и волки будут «от Тарика».—Да-а, возможно, но все же… Хотя я не люблю грез, я люблю исследовать». А вскоре Лариса позвонила и велела читать «Прощание с Матёрой» Валентина Распутина. «Матёра»—так назвала Лариса будущий фильм. «Ты и я»—это сплошь неудачи, шишки и «выкручивание рук» стоящими на страже сомнительной советской морали худсоветами. «Восхождение»—это непререкаемое везение и удачи. «Матёра»—это сплошная мистика, тревожные предчувствия, грустные свершения. <...> Мы начали готовиться к съемкам. Странный был этот подготовительный период… Как будто и группу собрали надежную, и артистов наметили тех, кто раньше работал с Ларисой, она хотела собрать на «Матёру» уже снимавшихся у нее. Но наши планы на глазах рушились. Актеры все, кроме Майи Булгаковой, или были заняты, или почему-то отказывались. В группе было некоторое уныние. Тут я увидела сон, странный сон, о котором и доложила Ларисе. Она выспросила подробности, а потом отрезала: «Я из-за твоих снов закрывать картину не стану». В общем, настроение у всех было неважное, и дела валились из рук. К намеченному сроку кое-как собрали актеров. Редактура, представленная А.Репиной и И.Бабич, была благосклонна, поговаривали, что после «Восхождения» они верят, что все будет как надо. Лариса больше не говорила о стратегии и не искала союзников, и была она… безмятежна, так бы я определила ее, новое для меня, состояние. Поговаривала: «Да не дергайся ты, все сладится, все образуется». Я считала, что она еще не отошла от успехов «Восхождения», от публичного громкого признания, сопровождавшего ее во всех поездках и встречах со зрителями, и, составляя план и смету, делала большие заделы на массовку, на количество съемочных дней, просила Ларису вставить, где надо и не надо, «собачек и деток» (на эти виды съемок полагался повышенный коэффициент пленки и съемочных дней). Лариса давала много интервью в эти дни, хихикала над моими усилиями и странно утоньшалась. По фотографиям, сделанным в тот период, это очевидно, из нее как бы вытекала жизнь, но она была добродушна и безмятежна. Наконец, мы отправились в экспедицию в г. Осташков. Мы поехали с ней вдвоем на той самой машине, злополучной, причем Лариса, садясь в нее, бросила: «И зачем Дима (директор картины) взял этот гроб?»—«Что вы говорите-то!»—«Ну, смотри, какая она длинная, несуразная». Машина действительно была длинная, «Волга»-кабриолет, так, кажется, она называлась. Во время поездки я попыталась поохать по поводу «чего-то всё не того», но Лариса добродушно отмахнулась: «Да ладно тебе, все образуется». По приезде в Осташков нас встретил Юра Фоменко, художник-постановщик картины, строивший в деревне, недалеко от города, декорацию «Изба Дарьи». Ларису отвлек Володя Чухнов, а Юра радостно сообщил мне: «Ну, готовьтесь!»—«К чему еще?»—испугалась я.—«У Вас на “Восхождении” были смерти?»—«Да, погиб один осветитель, его сбил пьяный водитель…»—«Один? У нас будет больше»—«Чего будет больше».—«Смертей. Когда поставили “Избу Дарьи”, ласточки прилетели, много, штук пять-шесть, и давай в окна стучать, ну, местные увидели и сказали мне, что примета плохая»,—«Все, Юра, замолчи и Ларисе не говори, не расстраивай ее»,—сказала я, помня ее реакцию на мой сон. На следующий день было воскресенье, группа еще не приехала, и мы—Лариса, Юра, Володя и я—отправились посмотреть декорацию и дерево, которое было выбрано для объекта «Листвень». По дороге мы зашли в местную церковь, и, как всегда, ребята врезались в толпу молящихся, а меня как бы что-то остановило, и как бы кто-то сказал: «И не стыдно? Люди молятся». Мне стало просто не по себе. Вся напряженная обстановка предыдущих дней, все эти разговоры о смерти… В общем, когда мы приехали на поляну, где стоял «Листвень», со мной просто истерика сделалась, такое произвело на меня впечатление это дерево. Это была вековая, лет этак триста, огромная, в пять охватов, сосна со срезанной когда-то верхушкой и странными, переплетенными ветвями… Мозг, да и только. Под этой странной, круглой, как у пальмы, кроной была такая тишина и покой… Я испугалась не на шутку и высказалась. Лариса отмахнулась, Юра пожал плечами, а Володя сказал, что вообще-то он себе «Листвень» другим представлял. <...> А на следующий день мы вспоминали «Ты и я». Я люблю эту картину. Лариса это знала и начала с того, что указав на меня пальцем, сказала: «Она любит “Ты и я”. Ну да, мамочка жалеет больного ребенка больше, чем здорового». Я возмутилась и начала защищать картину, Лариса с удовольствием слушала, а потом сказала: «Для меня “Ты и я”—тоже дорогой фильм. Он—мой поиск. Я искала тогда как бы “формулу личного бессмертия”. Непонятно? Поясняю. Петр метался, потому что искал истину в повседневности, в человеке, в работе, так? Так вот, работая над фильмом, я поняла, что истину надо искать совсем в другом месте. Сотников ушел потому, что нашел ее. Но нашел ее там.—Она подняла палец, указывая на потолок.—Я—художник-идеолог, только идея моя вон там». Она снова показала на потолок, и мы тоже на него посмотрели. И вдруг все замолчали, как говорится, тишина упала… И вдруг Володя сказал: «А давайте, договоримся, кто первый уйдет, тот пускай придет и расскажет, как там». Мы выпили за это предложение, и Лариса сказала: «Вера может быть наивной, прекрасной, возвышенной, но во что верить, вот вопрос не хуже гамлетовского. Для меня долго был главным вопрос—кто в центре? Бог? Человек? Наше движение по жизни усеяно, как песком, малыми компромиссами, малыми уступками и сделками с совестью. Но в любую минуту эти песчинки могут стать горой, которая раздавит нашу нравственность и уничтожит душу, а с ней и бессмертие. Вот почему я верю в христианство—покаяние, в той или иной мере, очищает душу, не давая песчинкам превращаться в глыбы каменные».—«Ну, можно подумать, Лариса, что ты в церковь ходишь»,—засмеялся Володя.—«А ты не смейся. И тебе бы не мешало». Такие были вечера, а днем не ладилось, крошилось просто все на глазах. И группа, казалось бы, так тщательно подобранная, тоже вся трещала и набухала неожиданностями. Особенно нас не радовала администрация, уверявшая, что «вот приедет новый зам.директора Кредитнов и вот уж тогда…» Приехал Кредитнов, и сидит Кредитнов на крыльце гостиницы, на солнышке, и отвечает на возмущение Ларисы: «Вот соберусь… Какое-то у меня настроение отпускное, вроде жду чего-то…» И Лариса замолчала, все в группе чего-то ждали… <...> Утром я никак не могла проснуться, хотя и слышала звонки будильника, шум шагов в коридоре. Обычно я всегда в экспедициях начеку, встречаю и провожаю Ларису, жду ее указаний, но в тот раз… меня как будто кто держал. Состояние мое было мне настолько странно, что я как бы задала кому-то вопрос: «Ну, а проститься-то я могу?» И услышала совершенно четкий ответ: «Проститься можешь». Я встала и подошла к окну. Внизу стояла наша «Волга», и все, кроме Ларисы, видимо, уже сидели в машине. Лариса стояла у машины, я ее окликнула, она подняла голову, улыбнулась и помахала мне рукой, затем села в машину и они уехали, а я легла досыпать. В 9 утра я бегала по гостинице, тихой и опустевшей, так как многие из группы уехали на выходные в Москву, и искала зам. директора Кредитнова, который должен был ехать со мной в санаторий. Со мной бегала Е.Ожегова, ассистент по реквизиту, и рассказывала: «Я такой сон страшный видела. Как будто Лариса бросила мне сумку, полную костей и крови».—«А я тоже видела сон. Будто они на катере уплывают, а меня сносит, только купальник с ними остался». Кредитнова мы не нашли и, продолжая возмущаться недисциплинированностью администрации и общей невразумительностью, отправились в санаторий. Когда же мы туда прибыли, нас встретил главный массовик-затейник и уверил, что ошибочка вышла и все в порядке, массовка, то есть отдыхающие, жаждут сниматься, и, вообще, надо было позвонить, а не тащиться в выходной день на работу. От такого поворота дел мы совсем расстроились и поехали обратно. В гостинице нас ждала дежурная: «Ваших начальников нет, так что вы идите в милицию, вас там ждут, что-то случилось с вашей машиной». В милиции я просто не поверила услышанному, особенно тому, что их было шесть человек. «Их пять: шофер, Лариса, Володя, Юра и ассистент Володи»—«Ну как же, вот документы»,—и милиционер назвал фамилию Кредитнова… До сих пор я не могу понять, как Лариса, с которой всегда была четкая и неуклонная договоренность, зная, что у нас срывается съемка горящего объекта из-за массовки и что мне нужен администратор, могла взять Кредитнова с собой. И не только взять, но и не предупредить меня… Ведь мы же с ней простились! Если бы я встала! Если бы… Но в истории сослагательного наклонения не бывает… |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.