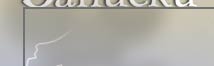|
 |
|
1 глава
— Завтра у нас два концерта у зенитчиков N-ского артиллерийского полка… Надо поехать в город и привезти нашу кинокартину, — говорил я моей «боевой подруге» Татьяне Дмитриевне Булах-Гардиной, переносившей со мной все трудности работы в частях нашей героической Армии во время Ленинградской блокады.
— Вот уж спасибо ленфильмовцам, подарившим мне к 40-летнему юбилею эту картину — сколько радостей дает она друзьям-красноармейцам.
— И основной смысл показа нашей работы, — ответила Татьяна Дмитриевна.
«Мы соберем растреллиевский гранит,
Разрушенный руками
святотатцев,
И сложим памятник! И пусть века хранит
Он память гордую о славе ленинградцев!»
Татьяна Булах-Гардина
(«Вперед Балтика!», роль «Кацавейки»,
исполняемая В.Р.Гардиным*) 8-ое сентября 1941 года.
Мы выезжали из дачного поселка «Лисий нос» в Ленинград.
Против обыкновения, в вагоне мало дачников.
Все молчат и с испугом смотрят в окна…
Повсюду, в небе, мерещатся немецкие аэропланы.
«Воздушная тревога! Воздушная тревога!»
Нервные окрики в радио голосом, знакомым по ежедневным передачам, застряли в ушах ленинградцев, как невынутая заноза…
Застучали зенитные батареи и в некоторых местах неба начали появляться кругленькие облачка разрывов.
Люди прилипли к стеклам!
— Это наши?
— Какого там черта «наши»! По нашим не стреляют… Вы разве не видите?
— А в поезд могут попасть? — сказала брюнетка, косясь под лавки скамеек.
— Вот вчера я видела, как он свалился, а потом, вдруг, выпрямился и стал стрелять…
— Это он спикировал, граждане, — сказал, улыбаясь, сержант.
— А вот несколько дней, когда я подъезжала к Ланской, вдруг затрещало по крыше вагона… Мы все под лавки полезли. А «он» только паровоз обстрелял…
— Н-да-а… — протянул опасливо пожилой человек в серой куртке, поглядывая вниз… — В этих случаях лучше всего ехать в последних вагонах…
— Ну да ведь не угадаешь, батюшка…
— А сейчас мы — в каком вагоне? Недалеко от паровика?
Зенитки застучали еще сильнее. Над Ланской шел воздушный бой…
— Владимир Ростиславович, вы не видите зарева над Ленинградом? — спросила Татьяна Дмитриевна.
— Виден дым…
Сегодня как-то особенно жутко…
Показалась платформа города.
— Фу! Наконец-то приехали! — Обычная сорокаминутная дорога потянулась на час…
Быстро шли к выходным дверям, на ходу приготовляя паспорт и пропуск…
Все приехавшие с этим поездом направлялись в убежище… Милиция не давала оглядываться на огромный столб дыма, висевший около Финляндского вокзала.
— В убежище! В убежище! Нечего головами вертеть!
Над городом за Невой стояло плотное громадное облако, ближе к земле окрашенное в розово-оранжевый цвет. Оно медленно росло вверх и вширь, клубясь, меняя оттенки и формы.
Бомбардировка города только начиналась.
Осенью 1941 года жители каждого дома несли дежурства у подъездов, на лестницах, чердаках и защищали, как могли, свои дома от зажигательных бомб.
При объявлениях воздушной тревоги дежурные загоняли проходящих в убежище и подъезды.
Тяжело часовое ожидание на лестницах…
<…>
«Конец воздушной тревоги!»
«Конец воздушной тревоги!»
Рассказы о бомбежке Шлиссельбурга, Невской Дубровки, об обстрелах и гибели людей прервались как по сигналу.
Все бросились к трамваям. Над крышами домов висели облака дыма… Они побагровели и стали еще страшнее.
— Горит «Электросила» и верфь, — сказал рабочий… Жестокая боль прозвучала в его словах…
Так актер крикнул бы: «Горит Александринка и ТЮЗ!»
Темнело… Девять часов вечера. У переполненных трамваев давка…
Татьяна Дмитриевна решила идти пешком…
Я остался со своими тюками ждать трамвая.
Они проходили мимо меня еще более переполненные. Висели на площадках, ступеньках и сзади вагона.
— Не попасть, — подумал я, оглядывая свою ношу. — Как я дотащу всю эту чертовщину?
Я стал пристраивать чемодан и мешок через плечо, а портфель и грибы понес в руках. Около двух пудов…
Проходя Литейный мост, считаю шаги между фонарями, чтобы дорога казалась покороче.
Думаю о Чайковской улице как о спасении. Там целый ряд скамеек и можно отдыхать на каждой.
Плечо давило… В висках стучало. У конца моста пришлось сделать остановку.
А вдруг я упаду на улице… Может лопнуть сосуд и опять будет кровоизлияние… В Одессе из-за этого пришлось бросить съемки картины «Приятели»… А жаль. И вдруг, как в киноаппарате, замелькали в голове кадры воспоминаний…
<…>
Чего только не передумаешь во время такого длинного пути по осажденному городу…
Смеркалось…
Не было слышно ни голосов, ни гудков автомобилей и трамваев.
Быстро шли пешеходы.
С удивлением смотрели на меня и мои пожитки.
Многие меня знали. Десятки кинокартин оставили в их памяти нестираемый след от созданных мною экранных образов. Какая-то молодая женщина предложила помочь донести.
Я поблагодарил и отказался.
Трудно сосредоточить мысли на том, что происходит вокруг, настолько события были необыкновенны, странны и непонятны. Этот город я знал 38 лет. Больше половины моей жизни.
Сначала в дни далекой молодости. Я его не очень любил.
Приехал из Тифлиса в 1904 году, в театр Веры Федоровны Комиссаржевской…
Сотню раз сыграл Крогстада в «Норе» с гениальной артисткой.
Мечтал…
Бродил по улицам среди расфранченной столичной публики. Искал приключений. Преподавал в нескольких школах драматическое искусство…
<…>
Бросил театр… Ушел в кинематографию и творил — со всей яростью своего темперамента — кинокартины.
Полсотни дореволюционных и три десятка наших — советских…
Сорок пять кинообразов создал как актер.
30 лет работы без передышки…
И вдруг… Обрыв… Обрыв моей творческой ленты… Как и чем ее склеить?
Не понимаю.
Ясно. Эвакуация.
Останется в городе только хроника.
Мы решили из Ленинграда не уезжать.
«Оставить друга в воющей беде я не смогла. И право, не жалею. Хоть голова моя в печальной седине… Но я душою не слабею… И верю: город мой останется моим.»
Так писала в стихах Т.Булах своему брату в далекий Казахстан в 1942 году.
Да. Решение у нас созрело. Но я чувствовал то предсмертное одиночество, когда хочешь куда-то стремительно двигаться, творить, летать, а телесное существо доказывает всю невозможность и нереальность этих порывов.
Я мечтал о киноновеллах, которые будут ежедневно, ежечасно рождаться в героическом городе…
О необычайных неожиданностях городской и фронтовой жизни.
О запечатлении в негативах кратких фабул — прекрасных мгновений, останавливающихся только чудесной кинематографией.
«Конец воздушной тревоги!»
Очнулся.
Мысли стушевались. Исчезли.
Осталась усталость и желание поскорей добраться до квартиры.
— Куда вы пропали? — встретила меня Татьяна Дмитриевна…
Рассказывая о грибной корзине, о дорожных злоключениях, я уселся ужинать.
На наружные стекла окон нашей квартиры были наклеены крест на крест полоски обоев. Однако при бомбардировке стекла вылетали и разбивались без наклеек и с наклейками одинаково.
Внутренние стекла были заклеены сплошными обойными кусками для затемнения, поэтому утром квартира имела вид тюремного каземата.
А вечером можно было не закрывать окна шторами.
Перед сном я поставил электрическую лампу под рояль и не затушил свет.
Около 12-ти часов раздалось отвратительное завывание сирены из радиорупора.
А потом какой-то дикий, никогда прежде не слыханный звук не то движущегося гигантского полотна, не то ревущего льва.
И вслед за ним — такой грохот, что я немедленно вскочил и растерянно стал надевать ботинки.
— Что такое?
— Не знаю… выла сирена, а потом стало вот это…
Новый близкий взрыв не дал договорить.
— Бомбят?
— Очевидно…
Я взглянул на Таню, жену. Обычная уверенность и спокойствие покинули ее.
С неба в Таврический сад падали молнии с мешками грома на конце.
Это было страшно, ошарашивающе незнакомо.
— Что делать?… Бежать в убежище?
— Бессмысленно… Такая лавина пробьет любые преграды. Надо подождать.
В радио заиграла труба.
«Отбой воздушной тревоги!»
Молчали и ждали.
Когда громадный шмель влетает в комнату и жужжит, пролетая над головой, — его видишь, можно увернуться, отмахнуться.
Ночное жужжание немецких аэропланов выматывает нервы у здоровых людей, а у меня и у Тани, профессиональных артистов, она [нервная система] не может быть устойчивой.
В душе безотчетно поднимается какой-то слепой животный ужас за свою жизнь.
Кажется, что вот… вот… сейчас будешь погребен под развалинами рухнувшего дома…
Но вдруг слышится другой голос, упрекающий растерявшегося себялюбца.
Начинается борьба, и я чувствую ее своим существом…
Дом трясется…
Град падающих камней почти над ухом…
Тупой удар неразорвавшейся бомбы в нескольких десятках метров от нас — в Таврическом саду.
— Д-з-з-зинь. Д-з-з-з.
Летят на тротуар стекла из нашей квартиры.
Крики!
Гудки пожарной команды…
Мы сидим на лестнице.
Окна и стеклянная дверь на парадной открыты…
Небо освещается луной и полосами лучей прожектора.
И между ними вдруг загорается какая-то искра, с воем летит вниз и, впившись в темноту, разливает волны ревущего грохота.
Мы прижимаемся друг к другу, стараясь сделаться меньше, незаметнее для кошмарных чудовищ, летающих над нами.
В эту ночь их было больше сотни.
Уже хлестали небо зенитки…
В наш подъезд заглянул дежурный по дому. Сказал, что близко пожар.
— Зачем вы здесь сидите? Идите домой. Холодно… Простудитесь… Опасность одинакова везде…
В квартире с разбитыми окнами показалось жутко.
Решили вернуться опять вниз, на лестницу.
Страшная ночь!
Я был человеком, как говорится, «видавшим виды».
В 1922 году на съемках в Крыму спускался с Ай-Петри на автомобиле без тормозов, без света…
Сидели на баке с бензином и курили…
Держали наганы, ожидая нападения…
Иногда при частых переездах приходилось просыпаться от толчка. Шофер возится. Ночь темная. А утром оказывается, что передняя [часть] кузов[а] висит над пропастью…
Тогда и это не мешало продолжать сон.
Он меня редко подводил…
Мы были закадычными друзьями.
И в ту ночь, когда под утро прозвучал, наконец, отбой воздушной тревоги, я крепко заснул.
2 глава
В три часа дня мы пришли к маленькому домику, в котором до войны жили кинорежиссеры братья Васильевы.
Около него стояла динамомашина.
Электричество в «Лисьем носу» не горело.
Через кухню вошли в двенадцатиметровую комнату.
Всюду стоят, прижавшись друг к другу, бойцы.
На одной из стен экран — морщинистое полотно величиной метр на метр.
Перед ним — полуметровое пространство, наша «сценическая площадка».
Киномеханик пускает фильм «Иудушка Головлев».
Глазок объектива запотел, и тени на полотне совершенно невероятные.
Зрители жмутся друг к другу, чтобы впустить побольше товарищей.
Мы начинаем свой номер просьбой чуть-чуть отодвинуться от нас, иначе мы не сможем шевелить даже пальцами.
Гриф гитары я держу прямо вверх, могу задеть чей-нибудь нос.
И все-таки нас слушают внимательно и верят нашим образам.
Жалеют Анненьку, возмущаются Головлевым. После фильма читаем стихи.
Прощаемся.
С трудом выбираются зрители через крошечную дверку, заставленную к тому же киноаппаратом.
Веселые, как всегда после выступления, уходим.
Уже ждет нас крытый под пикап грузовик.
<…>
Недалеко стоял низкий бревенчатый дом. К нему прилегала тропинка. По ней мы и направились к своим зрителям.
Вошли в широкий коридор, где пылала толстая высокая печь.
Из коридора — в «зал».
Начали концерт.
И вдруг бойцы, на ходу натягивая шинели, лавиной ринулись со своих мест.
Через несколько почти неуловимых мгновений мы остались одни.
А спустя минуту послышались залпы зениток.
Страшно.
Вечер.
Пощелкивают дрова в двух громадных печках и русская осень дремлет за окнами, не обращая внимания на тревожащих ее тишину людей.
Потом комиссар позвал нас смотреть батарею в действии.
Широкая облачность скрывала «Мессершмиттов».
Стрельба велась по звуку.
Потрясла она меньше, чем выстрел на сцене.
Среди большой, спокойной природы все как-то просто. Провели нас по подземным ходам и каморкам.
Показали круглый блестящий стол со сложными приборами зенитной стрельбы. Он под открытым небом, и смешной конский хвост висит около него для сметания с его поверхности снега и пыли.
Тревога все длилась.
Комиссар решил везти нас обратно.
— А то ночью дороги не найдем, — шутил он.
И снова Ленинград… и снова работать… Работать всюду, где захотят видеть нас наши бойцы.
* Стихи, которые цитирует персонаж Гардина, старый ленинградец по имени Кацавейка в фильме А.Минкина и А.Файнциммера «Морской батальон» — о борьбе моряков Балтики против немецко-фашистских войск в дни героической обороны Ленинграда. Во втором томе гардинских «Воспоминаний» они приведены в другом варианте:
«Мы соберем растреллевский гранит,
Израненный осколками снаряда,
И сложим памятник. И пусть века хранит
Он повесть гордую о славе Ленинграда»
(Г а р д и н В.Р. Воспоминания. Том II. М., «Госкиноиздат», 1952, с. 252.)
Публикация А.Я.Андреевой и В.В.Забродина,
предисловие В.В.Забродина
Информацию о возможности приобретения номера журнала с полной версией этой статьи можно найти здесь. |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.